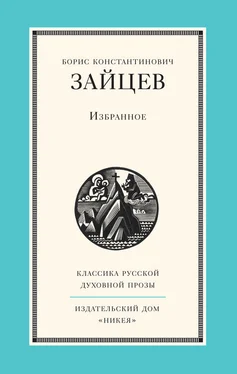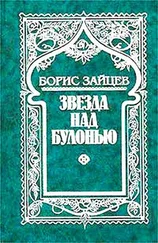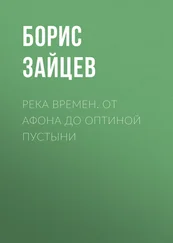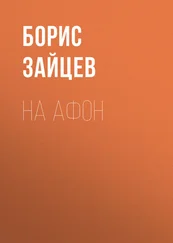– До Карей и доберетесь. Ничего, у нас и митрополит Антоний [16]на такой мулашке ездил.
Через полчаса кривоногий грек в обуви, вроде мокасинов, подвел к каменной приступочке, нарочно для этого сделанной, вялого мула. Другой был у него в поводу. Мы тронулись по горной тропе – медленно и молчаливо.
Taciti, soli e senza compagnia,
N’andavam Tun dinanzi e I’altro dopo,
Come frati minor vanno per via.
(Dante) [17]
А о. Петр, так же прямо стоя в лодке, так же бодро, весело греб к русскому монастырю св. Пантелеймона.
* * *
«Все необычайно в этом новом мире» – сразу ощутил я, сидя верхом на скромном животном, осторожно перебиравшем ногами с маленькими копытцами.
Тропа вилась бесконечно, и все больше в гору. Вокруг дикие кустарники, каменные дубки, цветущий желтый дрок – я срывал иногда, с седла, его милые цветы. Так же, как и спускавшись в плясавшую лодку, чувствовал себя в чужой власти: вот бредет мул по крутому обрыву и поскользнется своим подкованным копытцем, или нет, его воля. Сломаешь себе ногу, или будешь цел, тоже неведомо. Как неведомо и то, нанесет ли этот холодно-облачный ветер, «гурья» («борей» в русской переделке!) – нанесет ли он ливень прежде, чем доберемся до Карей, или же позже. Но чувствуешь – ничего, все устроится, «образуется».
Грек срезал мне длинный прут и, подавая, сказал:
– Гоняй мула. Бей, бей.
Я пребыл равнодушным. Что там «гонять»? Он сам знает дорогу. Мы поднялись мимо древнего греческого монастыря Ксиропотама [18], где все было тихо и молчаливы кипарисы, тополь у его входа, да ярки маски. Дорога стала шире, мы вступили в каштановые леса. Справа глубокая долина, в ее ущелье жемчужной нитью висит водопад – беззвучный. По дальнему взгорью темнеют кедры и сосны. За ними, в облаках и туманах, – сама гора Афон, сейчас почти невидимая – закутана влажно-суровыми пеленами. Ветер свистит, гудит в каштанах. Мелкая влага сеется. Хорошо, что мы в лесу! На чистом месте сдуло бы. Кутаюсь в плед. Мул ступает своими копытцами по священным камням Земного Удела Богоматери. Сердце крепко и радостно. На верхах закипает буря.
* * *
Мы находимся в стране, конечно, не совсем обыкновенной.
От полуострова Халкидики, во Фракии, выступили в море три ответвления – Кассандра, Лонгос и вот наш Афон, самый восточный из них. Это полоса суши длиною около восьмидесяти верст, шириною в двадцать-тридцать. На южном своем конце она обрывается в море островерхою горой, собственно «Афоном». По полуострову идет холмистый кряж, как хребет живого существа, весь заросший лесами; едва пролегают там тропки. Двадцать монастырей – греческих, русских, болгарских, сербских, румынских – разбросаны по этим склонам, много скитов, еще больше «келии» и «калив» (в последних живут одиночки-пустынники). Кроме монахов, никого нет на полуострове – ни села, ни фермы, и так уже более тысячи лет! С седьмого века стали селиться здесь иноки (по окончании великого переселения народов). Византийские императоры им покровительствовали, давали «хризовулы» [19]с привилегиями, угодьями, имениями («метохи») (В настоящее время монастырских имений, «метохов», не существует. Их отняло греческое правительство – не только у греческих монастырей, но и у русского. – Прим. Б. З. )
Вторую тысячу лет не знает эта земля никого, кроме монахов [20]. Около тысячи лет, постановлением монашеского Протата, не ступала на нее нога женщины. (Не только женщинам запрещен доступ на Афон, но и животным женского пола.) Горы, ветры, леса, кое-где виноградники и оливки, уединенные монастыри с монахами, уединенный звон колоколов, кукушки в лесах, орлы над вершинами, ласточки, стаями отдыхающие по пути на север, серны и кабаны, молчание, тишина, море вокруг… и Господь надо всем, – вот это и есть Афон.
* * *
Одолев хребет, стали спускаться. Внизу, сквозь редеющий лес завиднелись крыши и колокольни – монашеский городок Карея, место главного управления Афоном (Карея – центр управления полуостровом. У каждого монастыря есть здесь свой «конак» или подворье. Монастыри посылают в Карею своих представителей, «антипросопов». В антипросопы избираются наиболее просвещенные и образованные монахи (от русского монастыря – непременно хорошо владеющие греческим языком). В очень отдаленные времена управление Афоном было монархическим, правил Прот (Первый), старец-игумен всей св. Горы, при нем находился синод почетных старцев (совещательный орган). До падения Византии Проты рукополагались константинопольским патриархом. С начала XVII века управление стало коллегиальным, появился Протат, или Кинот, в их теперешнем виде. Антипросопы, составляющие его, считаются между собою равными. Председательствует представитель Лавры св. Афанасий – самой древней и могущественной обители. Вряд ли, однако, я ошибусь, если скажу, что хотя в идее антипросопы равны, на практике Афоном правит группа могущественных греческих монастырей – Лавра, Ватопед, Ивер. Всего на Афоне двадцать монастырей, посылающих в Протат представителей (скиты и келии не посылают). По влиятельности и старшинству монастыри располагаются следующим образом: Лавра, Ватопед, Ивер, Хиландарь (сербский), Дионисиат, Кутлумуш, Пантократор, Ксиропотам, Зограф (болгарский), Дохиар, Каракалл, Филофей, Симонопетр, Св. Павла, Ставроникита, Ксеноф, Григориат, Есфигмен, Руссик (наш монастырь св. Пантелеймона), Костамонит. Таким образом, в иерархии монастырей русский монастырь св. Пантелеймона, один из самых многолюдных и вообще больших, занимает 19-е место! Каждые пять монастырей выбирают по одному эпистату, так что существует еще четыре эпистата, один из них «протоэпистат» или назир. (Эпистаты – как бы исполнительный и финансовый комитет Афона. – Прим. Б.З. ) За ним едва видно сквозь полудождь, полутуман пенно-кипучее море, у берега еще синее, дальше сливающееся с тяжелыми пеленами туч. Грек указал мне русский «конак» (подворье Пантелеймонова монастыря) и ушел со своими мулами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу