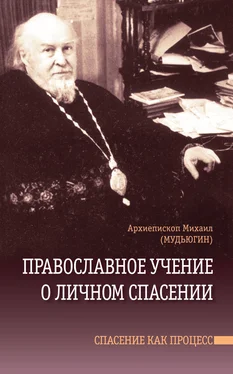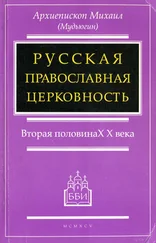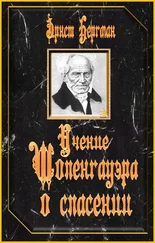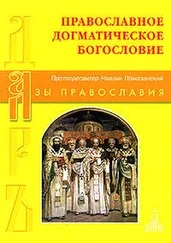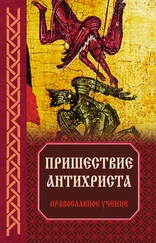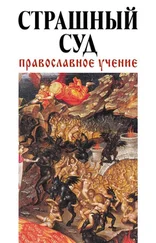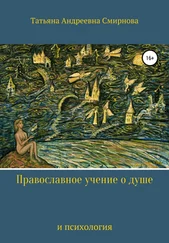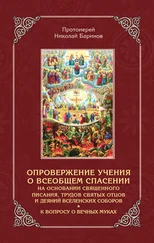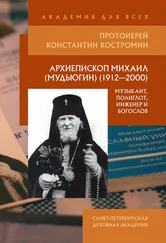Изначально он думал о серии статей и сомневался в целесообразности именно диссертационной формы для данной цели. К написанию же именно диссертации его подтолкнула активная заинтересованность митрополита Никодима (Ротова), убежденного в необходимости создания подобного богословского труда в непростые годы советского атеистического монополизма. Окончательный текст диссертации вырастал из многочисленных записей, которые владыка вел с юношеских лет, и в которых он пытался формулировать тревожившие его вопросы и найденные промежуточные ответы. До Астрахани, где владыка Михаил, будучи епархиальным архиереем, работал над диссертационным текстом, тетради с записями довоенного периода не дошли: многое пришлось уничтожить из-за гонения властей. Но собранные в них духовно-интеллектуальный опыт и напряженность творческой мысли не пропали даром, а были сохранены памятью и еще более полно реализованы в позднейших записях, послуживших основой для написания диссертации. Мотивируя вынесение диссертации на обсуждение прежде всего собственной обеспокоенностью в вопросе спасения, желанием в нем разобраться всерьез и всесторонне, а не получением магистерской степени (к атрибутам разного рода статусное™ владыка относился как к условностям, менее всего призванным отразить содержание, зато небезопасным относительно культивирования тщеславия), владыка постарался написать по возможности исчерпывающую работу, и – главное – полезную практически. Владыка относился к тем авторам, чьи работы всегда обладают ясно выраженной адресностью и программным общественным предназначением. Он писал эту работу для людей, и именно поэтому ему очень хотелось увидеть свой труд изданным. К сожалению, даже долгой жизни владыки не хватило, чтобы эта мечта осуществилась.
Во многом ход рассуждений владыки Михаила был заранее предопределен. Не только тем, что работа Патриарха Сергия, неоднократно издававшаяся до революции, содержит в себе ключевые рассуждения по данной теме. Думается, как раз, напротив, владыка Михаил, испытывая несомненный пиетет к этой безусловно достойной работе, всеми силами старался дистанцироваться от нее, чтобы не оказаться в роли заурядного пересказчика. Но, как впоследствии вспоминал сам владыка, трудности подобного характера ощущались лишь в самом начале; все-таки он исходил прежде всего из собственного опыта жизни и образа мышления. Владыка Михаил имел образование филологическое и техническое, его багаж богословских знаний начал формироваться еще в детстве, а музыкальное образование он получил, обучаясь в Консерватории. Эти знания складывались, выстраивая исключительно стройное и логически завершенное здание его уникальной и цельной личности. По этой причине он не мог избрать иного метода, кроме сочетания строго упорядоченной логики с образно-ассоциативным мышлением.
Исключительное использование формальной логики было для него невозможно по причине уже накопленного богатого жизненного опыта человека, пережившего в своей жизни нищету и достаток, голод и относительное благополучие, тюремное заключение и свободу, в первую очередь внутреннюю. В его жизни были и восторг творчества, и рутина жизни советского инженера; была череда в смене мест жительства и работы из-за преследования властей за свои убеждения, были дружба и предательство, и потери близких, и ощущение неизбежного конца, и обретение новых надежд и перспектив. Не раз ему приходилось делать выбор между карьерой с последующим повышением собственного советского статусного благосостояния и личными убеждениями, неизбежно приводившими к лишениям во имя Христово, ссылке, угрозе нищеты и смертельно опасному общению с органами госбезопасности. С юных лет, даже в школьные годы и годы учебы в Технологическом институте, Институте иностранных языков и Консерватории, он не скрывал своих убеждений и был готов нести всю полноту ответственности за это. Была ли это отвага? Сам владыка говорил, что это был вполне осознанный путь личного спасения в «мерзости бытия», данного как испытание. Поэтому на стержень логики оказался органично и с чувством меры нанизан собственный житейский и профессиональный, прежде всего – педагогический, опыт, свои знания в области психологии и юриспруденции, мировой литературы и культуры в целом, истории церкви и этики, иностранных языков и богословских мнений. И все это здание рассуждений покоилось на мощном фундаменте церковной традиции, начиная со Священного Писания, которое владыка знал практически наизусть, и заканчивая трудами Святых Отцов самого разного времени, но преимущественно древними. «Синтез религии и науки, это то, о чем так много и горячо говорят сегодня, и что уже давно осуществлено в образцах подлинного богословия. Богословие, имеющее своим предметом исследования, в том числе и весь – без исключения, – Божий мир во всех его проявлениях, в самой методологии своей имеет научный синтез». [4] Разрозненные мысли вслух. Штрихи к портрету архиепископа Михаила / Отв. ред. свящ. К. Костромин. Вступ. ст. Ю.А. Соколова. СПб.: Портал Христианин. СПб, 2009. С. 16.
Читать дальше