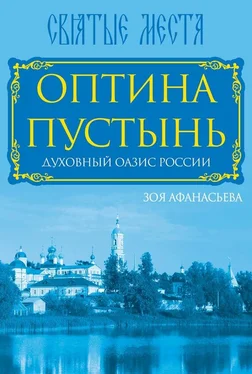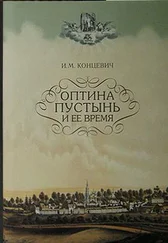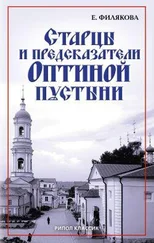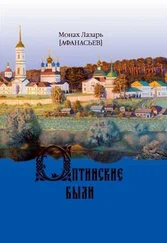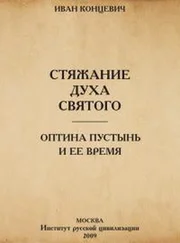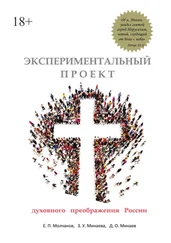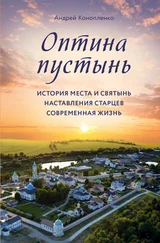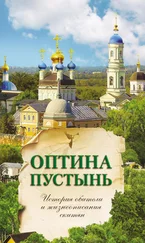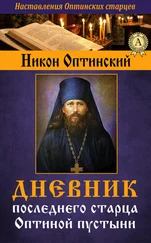«О. Авраамий, состоя в братстве Песношского монастыря, пред назначением своим в настоятеля Оптиной Пустыни был огородником и спокойно, в простоте сердца, занимался своим послушанием, не ища и не желая ничего иного. Когда иеромонах Иосиф [2] Предыдущий, перед о. Авраамием, настоятель Оптиной Пустыни.
отказался от должности за болезнию и митрополит Платон стал просить старца Макария дать в Оптину Пустынь для ее устройства совершенно способного и вполне благонадежного человека, старец с обычною своею простотою отвечал: «Да у меня нет таких, владыка святый! А вот разве дать тебе огородника Авраамия?..» Преосвященный, поняв, что хотел выразить такою оговоркою старец (т. е. что совершенства нет на свете и трудно отвечать иначе на требование: дать человека совершенно и вполне способного и благонадежного), не спрашивая ничего более, приказал представить к себе о. Авраамия. Архимандрит Макарий, спустя некоторое время призвав к себе Авраамия, приказал ему приготовиться ехать с ним в Москву для некоторых покупок, а по приезде в столицу представил его к архипастырю. Тогда только узнал о. Авраамий о своем назначении. Тщетно, по чувству смирения, отпрашивался он у своего старца о. Макария, представляя, что налагаемое на него бремя выше его сил, поставляя на вид свои немощи и болезненное состояние. Советы голутвинского [3] Старо-Голутвинский монастырь в г. Коломне.
старца Самуила и песношского Ионы убедили его не уклоняться настойчиво от звания Божия, и он вскоре отправился по назначению, напутствуемый благословениями старца и любившей его братии».
Было в то время о. Авраамию 37 лет. И тут же заметим, что так же, как и его песношский настоятель старец Макарий, был он родом из г. Рузы Московской губернии.
«Стопы моя направи по словеси Твоему…» Путь пролегал к калужским пределам – в благословенную Оптину.
Прибыв в Оптину Пустынь, он нашел в ней крайнее запустение. «Не было полотенца рук обтирать служащему», – вспоминал о. Авраамий. На всем лежала печать упадка и оскудения. «А помочь горю и скудости было нечем; я плакал да молился, молился да плакал».
В чем же конкретно выражалось это бедственное и жалкое положение древней обители? Расстройство внутреннее (т. е. самой монашеской жизни), расстройство внешнее… Строения, за исключением только Введенской соборной церкви, были все деревянные: оставаясь в течение нескольких лет без поддержки, они пришли наконец в совершенную негодность, так что одна лишь братская келия (да еще настоятельская) способна была вмещать монашествующих. Братство обители состояло всего из трех человек, и в числе их не было ни одного иеромонаха; что касается новоприходящих на послушание трудников – то они здесь не появлялись уже с незапамятных времен. Казалось, конечное запустение святого места почти неминуемо. Но… «невозможное для человеков – возможно для Господа». Посмотрите, как меняется тональность повествования архимандрита Леонида (Кавелина) в его исторических хрониках при одном только упоминании о новом оптинском строителе: «В сем благочестивом настоятеле, двадцать лет управлявшем Оптиной Пустынью, собранная им братия видела назидательного отца, обитель – попечительного и искусного правителя, посторонние видели в нем пример истинного христианина и указателя деятельной духовной жизни».
Приснопамятный восстановитель Оптиной Пустыни, до своего «черноризства» – рузский мещанин, как свидетельствует его послужной список, «уволен обществом в монашество 1789 года, а определен указом в Песношский монастырь в число братства в 1790 году и уже в 1791-м, 6 апреля, был пострижен в монахи. Затем следуют основополагающие вехи его жития: принятие священнического сана (т. е. иеромонашество) в 1792 году и назначение строителем в Оптину Пустынь – в 1796-м…
Прожив два месяца в богоспасаемой Оптинской обители и не видя, по человеческому размышлению, ниоткуда помощи к исправлению плачевного ее состояния, «и скучая, – добавлял в воспоминаниях сам о. Авраамий, – по своей духовной родине и прежней мирной беспечальной жизни», он отправился на Песношу. И не просто чтобы открыть старцу о. Макарию свою скорбную душу, но и молить его снять непосильное бремя, коим представлялось возрождение Оптиной. Но вышло иначе.
«Старец принял меня с отеческою любовию и, выслушав мои сетования о скудости вверенной мне обители, велел запрячь свою повозочку и, взяв меня с собою, поехал по знакомым ему помещикам. Они в короткое время, по его слову, снабдили меня всем необходимым, так что я привез в монастырь воза два разных вещей. Возвратясь со сбору, старец пригласил меня отслужить с собою, а после служения и общей трапезы, совершенно неожиданно для всех, обратился к своему братству с такими словами: «Отцы и братия! Кто из вас пожелает ехать с о. Авраамием для устроения вверенной ему обители, я не только не препятствую, но и с любовию благословляю на сие благое дело».
Читать дальше