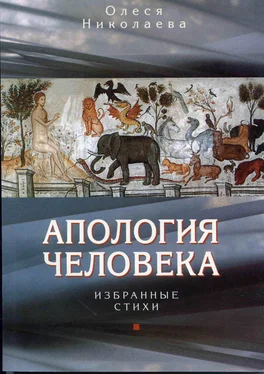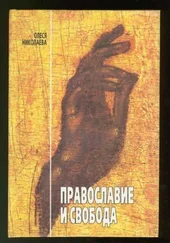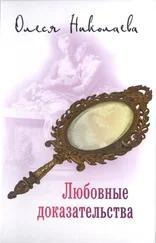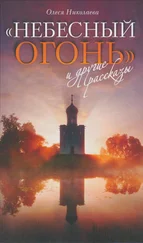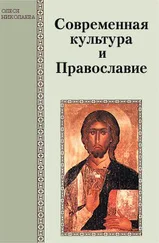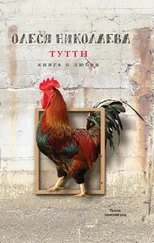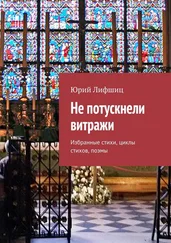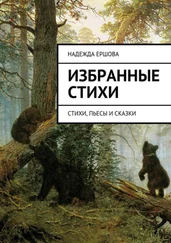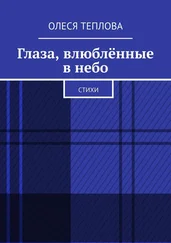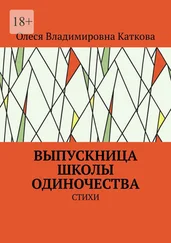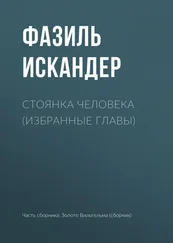В галантерейную роскошь даров промтоварных
нас одевала она – некрасивых, бездарных,
бездерзновенных, смотрящих темно и устало,
словно на праздник готовила нас, выпускала,
словно на пир, где нельзя быть иначе одетым,
чем в эту радость нарядную – с небом и светом!..
Может, в Твоих мастерских белошвейных небесных
много есть белых хитонов, нарядов воскресных,
много целебных покровов, спасительных нитей
есть для нее средь высоких Твоих общежитий!
Книга начинается небольшой поэмой «Августин» и заканчивается то ли философской поэмой в прозе, то ли лирическим трактатом «Апология человека» – произведениями, которые ясно показывают, как решительно Олеся Николаева подходит к самым границам возможного, привычного в лирике. Ход повествования в «Августине» – сложный, двуслойный, разом вводящий читателя и в историю тайного монашеского жития в горах Кавказа, и в историю юного бродяжки, жулика, присвоившего чужое имя. Сложность увеличивается за счет того, что повествование прерывается, словно делясь на доли: в него вторгается неведомый голос, самый авторитетный для автора, голос того, «кто поручил мне Августина». Эти вторжения задают всему рассказу не только особенный ритм, но и глубину и высоту: ведь неизвестный собеседник постоянно говорит о том важнейшем, что соединяет людей, делает не чужими друг другу и Августина, и кавказских отшельников, и автора, и вообще – всех и вся. Та же нота слышна в «Апологии человека» (благодаря этому складывается своего рода рамочная композиция сборника). Казалось бы, антропологическое рассуждение, построенное (как и подобает трактату) тезисно, исследующее доказательно и логически всю внутреннюю структуру человека, все противоречия личности и ее уклонения от первоначального Замысла о ней. Но вместе с тем, это – и самая горячая исповедь, рассказ о себе и о других, о том, что всех нас объединяет в Адаме, делает родными.
Я бы сказала так: борясь с материалом, отвергая отработанное и общепринятое, Олеся Николаева поступает так же, как поступает с самой собой, со своей натурой, характером, на которые негодует, кривизны которых обличает, к которым даже применяет силу. Как тут не увидеть общность, сходство между искусством и действительностью? Ни поэзия (если только это настоящая поэзия), ни жизнь христианская не терпят механистичности, штампованных повторов, заученных приемов. И здесь, и там должен быть риск выбора и ответственности, самовоспитания и – если надо – самоотказа:
Я – богатый юноша, и мне жалко
расставаться с сабелькой из Эфеса,
и с камзолом бархатным с алой лентой,
и с пером на шляпе, и с крепким перстнем…
С этой гордой складкой у губ, с повадкой
молодого рыцаря, и с посадкой
верховой, с пружинистою походкой,
с подбородком, выплывшим легкой лодкой.
Уже в такой четкости формулировок – бескомпромиссность взгляда на себя самое, залог дальнейшей борьбы с собой.
Впрочем, такая брань, такие проявления сильного (и поэтического, и человеческого) характера не потрясают и не разрушают общих контуров мира, возникающих в ее книге, – ведь у этого мира есть Центр и Источник. Поэтому все тут, кроме бьющегося над собой человека, – скорбящего, страдающего, переменчивого, обидимого и обижающего, – устойчиво, добротно, прекрасно. А если посмотреть и на человека глазами любви – то все вообще соберется в изумительную картину, о которой иначе не скажешь, как «все добро зело»!
Недаром ведь и сборник называется не как-нибудь, а «Апология человека».
Елена Степанян
– …А волосы у меня были, – продолжал он,
отхлебывая чай из блюдца, —
вот до́ сих… —
И он бил себя по пояснице.
– Однажды, когда я оступился и летел
в пропасть,
они зацепились, запутавшись, за колючку.
Так я и выбрался невредимым.
…В восемь лет он был увезен матерью в горы,
где пострижен в мантию с именем Августин
отшельником-старцем.
После смерти матери и блаженного старца
спустился возле Сухуми.
На деньги тайных монашек, живших при церкви,
приехал в Лавру.
Там его не приняли без документов.
Он подался в Печоры.
Ему сказали: если бы у него был паспорт,
его бы взяли на послушанье,
а так – и нечего думать.
– Если они займутся выясненьем, кто я,
они потребуют показать, где жил я:
вызовут свидетелей, заведут дело…
А это значит – показать им тропы,
указать Верхнюю и Нижнюю Пустынь,
выдать старцев.
Многие там живут без паспорта, нелегально, —
власти дорого бы заплатили,
чтоб до них добраться.
Читать дальше