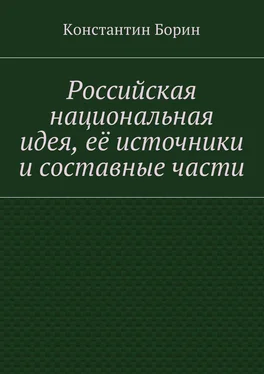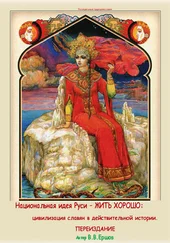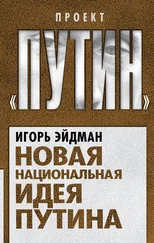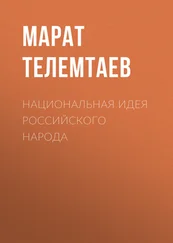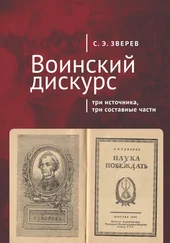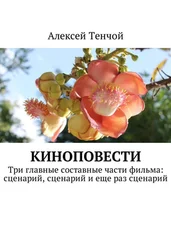«Когда государство наконец-то становится действительно представителем всего общества, тогда оно само себя делает излишним <���…> Государство не „отменяется“, оно отмирает».
Аналогичных с марксистами взглядов на историческую роль государства придерживались анархисты, одним из вождей которых был российский идеолог революционного народничества Михаил Александрович Бакунин (1814—1876). Свое понимание роли государства Бакунин изложил в работе «Государственность и анархия» (1873). В части необходимости и неизбежности уничтожения государства взгляды Бакунина и основоположников марксизма совпадали.
Однако марксисты, в отличие от анархистов, считали что после захвата власти государственный аппарат надо не уничтожить сразу, а использовать для необходимых экономических и политических преобразований общества, после чего он постепенно отомрет. Анархисты же требовали немедленного уничтожения государства. Марксисты считая это требование анархистов невыполнимым и нецелесообразным и говорили о постепенном отмирании государственных структур. В качестве обоснования тезиса о постепенном отмирании государства, Ленин, ссылаясь на Маркса, писал в работе «Государство и революция»:
«Пролетариату только на время нужно государство. Мы вовсе не расходимся с анархистами по вопросу об отмене государства, как цели. Мы утверждаем, что для достижения этой цели необходимо временное использование орудий, средств, приемов государственной власти против эксплуататоров, как для уничтожения классов необходима временная диктатура угнетенного класса» [8].
И подробно разъяснял:
«Различие между марксистами и анархистами состоит в том, что (1) первые, ставя своей целью полное уничтожение государства, признают эту цель осуществимой лишь после уничтожения классов социалистической революцией, как результат установления социализма, ведущего к отмиранию государства; вторые хотят полного уничтожения государства с сегодня на завтра, не понимая условий осуществимости такого уничтожения. (2) Первые признают необходимым, чтобы пролетариат, завоевав политическую власть, разрушил полностью старую государственную машину, заменив ее новой, состоящей из организации вооруженных рабочих, по типу Коммуны; вторые, отстаивая разрушение государственной машины, представляют себе совершенно неясно, чем ее пролетариат заменит и как он будет пользоваться революционной властью; анархисты даже отрицают использование государственной власти революционным пролетариатом, его революционную диктатуру. (3) Первые требуют подготовки пролетариата к революции путем использования современного государства; анархисты это отрицают».
В этой же своей знаменитой работе «Государство и революция» Ленин утверждал, что, якобы, исторически неизбежное уничтожение государства есть также и уничтожение демократии, так как, по его мнению:
«Демократия есть признающее подчинение меньшинства большинству государство, т. е. организация для систематического насилия одного класса над другим, одной части населения над другою».
Это свое удивительное определение В. Ленин, ссылаясь на Энгельса, комментировал следующим образом:
«Мы не ждем пришествия такого общественного порядка, когда бы не соблюдался принцип подчинения меньшинства большинству (т.е. принцип демократии – К.Б.). Но, стремясь к социализму, мы убеждены, что он будет перерастать в коммунизм, а в связи с этим будет исчезать всякая надобность в насилии над людьми вообще, в подчинении одного человека другому, одной части населения другой его части, ибо люди привыкнут к соблюдению элементарных условий общественности без насилия и без подчинения» [8].
Первый вопрос, который возникает при прочтении этого ленинского изречения: а что, при коммунизме все разногласия между людьми сведутся только к « соблюдению элементарных условий общественности»? В научной, технической, экономической и других областях деятельности никаких вопросов, требующих демократического решения, не будет? Иначе говоря, марксисты, видимо, предполагали, что при коммунизме любые вопросы будут решаться консенсусом, так как кроме «элементарных условий общественности» будет существовать некий набор правил и законов на все случаи жизни, которому люди будут всегда следовать. Любое отклонение от этого универсального кодекса будет исключено не путем насилия, а вследствие добровольного согласования различных мнений без демократических процедур. То, что это может быть осуществлено только если исчезнут все различия между людьми и они превратятся из людей в биороботов, Ленина нисколько не смущало. Он считал это не только возможным, но и неизбежным при коммунизме. Отношения между людьми станут похожими на отношения между насекомыми в пчелиных семьях и муравейниках, члены человеческого общества также «привыкнут» к « соблюдению элементарных условий общественности», как пчелы и муравьи и любые демократические процедуры в их деятельности станут излишними. Но люди не пчелы и не муравьи и никогда ими не станут. Ни на чем, кроме марксистских лозунгов и здравиц, не основанное утверждение, что человеческое общество при коммунизме может существовать без демократии, то есть без подчинения меньшинства большинству, крайне неубедительно и ставит под сомнение все другие представления основоположников марксизма и В. Ленина о государстве и коммунистическом обществе.
Читать дальше