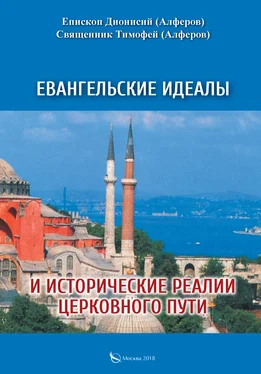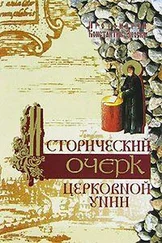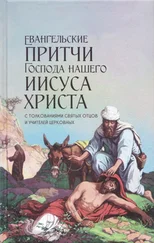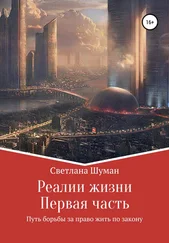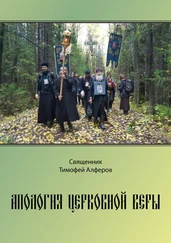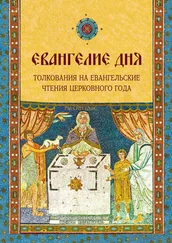За четверть века, прошедшие после падения коммунистического режима, обстановка коренным образом изменилась. Государство в России и бывших советских республиках предоставило почти полную свободу совести и религиозной деятельности (имеются ограничения лишь для сект и культов, имеющих выраженный антигосударственный характер). Коммунистическая идеология утратила практически всех сторонников и стала маргинальной. Современная официальная идеология компартий больше похожа на правосоциалистическую, чем на марксистскую в ее прямом и изначальном смысле. Более того, среди современных идейных атеистов, готовых отстаивать свои атеистические убеждения, коммунисты составляют меньшинство, а официальные коммунисты против религии и церкви ничего уже не имеют. Во всяком случае, ничего похожего на идеологическое поле времен СССР нет, идеологическая палитра совсем иная. Радикально изменилась и государственная политика в отношении церкви. Государство разрешило восстановить и построить заново тысячи храмов и монастырей, профинансировав главные из этих строек за счет федерального и местных бюджетов. Это составило самое масштабное храмоздательство во всей истории России. При содействии государства открыты десятки семинарий, сотни православных школ, курсов, библиотек, действуют несколько общероссийских и десятки местных теле-радио-каналов, проводится множество церковно-культурных мероприятий. Число церковно-практикующих православных увеличилось до 10–12 %, а считающих себя православными – до 65 % и более.
Введены уроки основ православной культуры в большинстве школ, открыты кафедры православной культуры и институтские храмы во многих вузах, включая военные академии. Сложилась прослойка православной общественности (интеллигенции), которая в основном и занимается православным просветительством и культурным творчеством. В последние годы государство уже официально объявило защиту традиционных ценностей (по сути своей, библейских): религиозных, нравственных и семейных, и, пусть не всегда последовательно, но пытается противостоять “евросодому” на законодательном и административном поприще.
При этом отношения государства с официальной церковью перестроились в сторону партнерства двух независимых сторон, в отличие от полного господства государства над порабощенной церковью, как в советское время. Официальная церковь самостоятельно управляется, подбирает себе кадры, имеет широкие международные связи, собственную солидную экономическую базу и далеко не во всем поддерживает политическую линию государства.
Но это обогащение и свобода самоуправления официальной церкви принесли ей новые проблемы.
Следствием этой свободы и отсутствия внешнего контроля со стороны государства стало обмирщение, породившее многие нравственные (содомия, но не только!) и экономические преступления, совершаемые церковной иерархией практически всегда совершенно безнаказанно. Бесконтрольность лидеров церковной корпорации, выведение ее из обычного правового поля, провоцирует этих лидеров простираться на горшее. Такого положения, как в церкви, нет ни в одной отрасли государственного управления, где чиновников, даже высокого ранга, периодически смещают, а иногда привлекают к ответственности. Поэтому ныне претензии обращаются уже не к государству, больше не угнетающему церковь, а к ней самой, злоупотребляющей предоставленной ей свободой.
В доказательство мы можем отослать читателя к нашумевшим разоблачениям протодьякона Андрея Кураева в его блоге со множеством откликов и подробностей, но, безусловно, он здесь свидетель не единственный.
Основные внутренние проблемы официальной церкви
Еще на предыдущем “сергианском” этапе у официальной церкви (МП) сложился взгляд на саму себя, как прежде и паче всего на административную, жестко централизованную структуру со своей “корпоративной этикой”, отнюдь не совпадающей с евангельскими заповедями. Суть этой “корпоративной этики” в круговой поруке и заговоре умолчания относительно любых нравственных преступлений иерархии. Главной ценностью совершенно официально провозглашается “благо церкви”, то есть, благополучие корпорации и ведущего ее слоя, ради чего оправдываются любые жертвы совестью.
Служебное положение церкви по отношению ко Христу и вверенной от Него пастве совершенно позабылось.
Полученная в последние два с половиной десятилетия свобода от государства окончательно превратила официальную церковь в систему со своей вертикалью власти, начиная с патриарха и синода, фактически заменивших собою поместные соборы, и кончая отдельной епархией, во главе с местным епископом, порой подминающим всю церковную жизнь под себя. Епископ почитается местным “церковным губернатором”, хотя объем его власти в епархии значительно выше, а степень ответственности значительно ниже, чем у светского губернатора. Патриарх сознает себя и мыслится окружающими, как церковный монарх, превосходящий объемом власти в церкви любого президента в своей стране. А вот рядовой пастырь, приходской священник, зачастую оказывается на положении почти крепостного по отношению к церковной номенклатуре: его могут в любой момент разлучить с паствой, перевести на другой приход, отправить за штат, без надежды на судебную апелляцию. При этом евангельское учение о христианском пастырстве по образу истинного Пастыря – Спасителя Христа совершенно забывается. Такое понятие сохранилось у части духовенства, но и там оно часто подавляется местной церковной властью, подбирающей клир по образу и подобию своему, а отчасти подвергается искажениям в духе лжестарчества.
Читать дальше