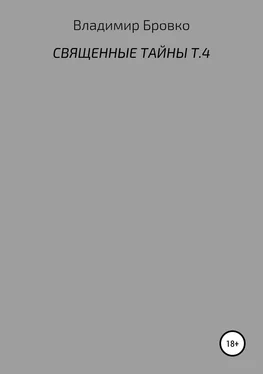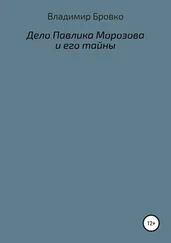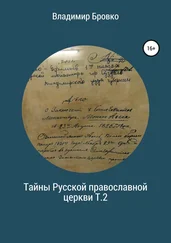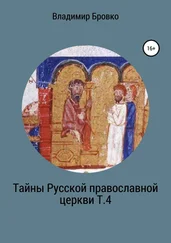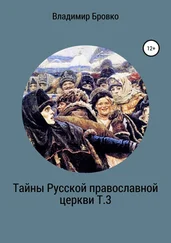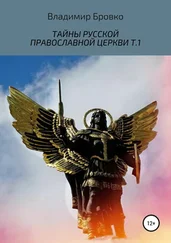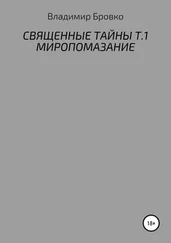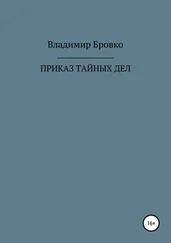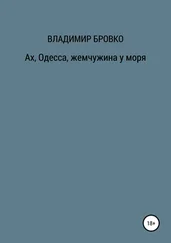В Ветхом Завете слово «mysterion» эквивалентно еврейскому s?d, «тайна» (Прит. 20:19; Иудифь. 2:2; Сир. 22:27; 2 Мак. 13:21).
В Новом Завете слово « таинство» обычно применяется по отношению к возвышенному откровению Евангелия (Матфея. 13:11; Колоссянам. 2:2; 1 Тимофею. 3:9; 1 Коринфянам. 15:51), воплощению и жизни Спасителя, и Его проявлению в проповедях апостолов (Римлянам. 14:24; Ефесянам. 3:4; 6:19; Колоссянам. 1:26; 4:3).
Теологи называют таинством раскрытие истин, которые превосходят естественный ум, так как, в узком понимании, таинство – истина, превосходящая тварный интеллект!
Невозможность достижения понимания Таинства рациональным путём приводит, по мнению оккультистов, к внутреннему или скрытому пути понимания христианских таинств, который получил название эзотерического в эзотерическом христианстве.
Эзотерики полагают, что даже будучи открытыми и при наличии веры, таинства все равно остаются неясными и сокрытыми пока длится смертная жизнь, если только понимание таинств не делается возможным при помощи эзотерики.
Древние корни христианской магии
Некоторые современные ученые полагают, что на ранних стадиях христианства ядро устного обучения было унаследовано от палестинского и эллинистического иудаизма, который сформировал основу тайной устной традиции, в IV веке названной disciplina arcani, которая, как полагают богословы, придерживающиеся господствующего мнения, содержится только в частях литургии и в некоторых других традициях, которые остаются частями некоторых ветвей основного христианского течения (например, доктрина транссубстанциации, как полагают католические теологи, была частью disciplina arcani).
Эзотерики уверены, что disciplina arcani, практиковавшаяся в раннем христианстве, являлась неким тайным, эзотерическим учением, отличавшимся от явного учения.
Однако в христианском понимании термин disciplina arcani имеет иное, довольно узкое значение. Например, согласно Православной энциклопедии:
Disciplina arcani (реже arcana; лат. – тайное учение), совр. термин, означающий правило древней Церкви не допускать присутствия некрещеных (включая оглашенных) при совершении таинств – прежде всего Крещения и Евхаристии.
D. a. подразумевала запрет на разглашение чинопоследования таинств и их смысла, а также точной формулировки крещального Символа веры и молитвы «Отче наш» до перехода желающего креститься в разряд «приступающих ко просвещению»!!!.
Действительно, процедура оглашения в первые века совершалась в обстановке тайны.
Георгий Флоровский указывает, однако, что тайна относилась не к учению, а к формулам и обрядам и имела скорее педагогический смысл:
И потому сообщаемый и разъясняемый в это время Символ надлежит «памятью начертывать в сердце», повторять его устно, не записывая на бумагу, и читать его тайно, чтобы кто не подслушал.
Эта disciplina arcani, распространяющаяся в Церкви, в особенности в IV веке, имеет пастырский и педагогический смысл и может быть отражает Александрийскую тeopию о ступенях ведения. Возможно, что в ней отразилась и практика древних языческих мистерий… Она относится не столько к учению, сколько к формулам и обрядам.
Тертуллиан писал о вынужденном сокрытии сведений о христианском богослужении в обыденной жизни ввиду непонимания и насмешек со стороны язычников; при этом язычники все равно знали, что совершается в Церкви
Крупный специалист по античности и христианской истории академик С. С. Аверинцев указывал на принципиально иной смысл явления disciplina arcani в раннем христианстве по сравнению с эзотеризмом гностиков или масонов:
Вообще говоря, любое религиозное и тем более мистическое сознание принуждено создавать для себя систему сакральных знаков и символов, без которых оно не могло бы описывать своё «неизрекаемое» содержание; <���…> это так же присуще византийскому богословию, как даосской, или буддийской, или индуистской мистике.
Если иметь в виду только эту универсальность символического языка, легко проглядеть существенное различие между историческими типами и «стилями» символики.
Поэтому подчеркнем, что для христианской традиции самый главный акцент лежит <���…> не на атмосфере тайны и «оккультного» намека на сокрываемое от непосвященных (ср. роль символики мистериальных и гностических сообществ от Элевсина до новоевропейского масонства).
Разумеется, элементы того и другого могут быть без труда выявлены в сложном составе христианской традиции (раннехристианская «disciplina arcani»<���…>), но их модальность внутри христианской символики как целого всякий раз определяется центральным аспектом этого целого: сакральный знак и символ есть знамение, требующее веры. <���…>
Читать дальше