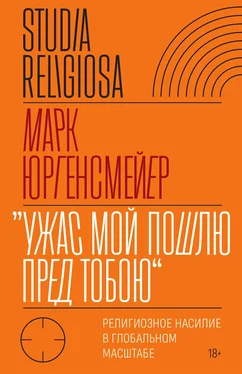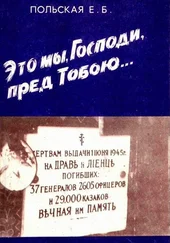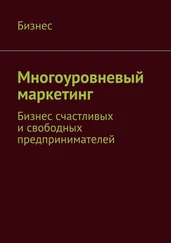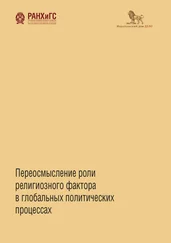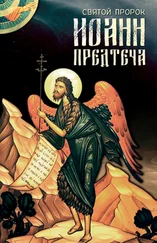Меня озадачивает не то, почему зло творят люди скверные, а почему его творят те, кого в иных обстоятельствах мы бы назвали «хорошими», – в случае с религиозным терроризмом это благочестивые верующие, искренне преданные моральному видению мира. Принимая во внимание обволакивающую их цели возвышенную риторику, кажется тем трагичнее, что направленные на их достижение акты насилия калечат и рушат столькие жизни – и не только тех, кого они затронули непосредственно, но и тех, кто наблюдал за ними даже издалека.
Поскольку я стремлюсь понять порожденные этими актами насилия культурные контексты, акцент будет делаться скорее на связанных с ними идеях и поддерживающих «террористов» сообществах, чем на самих этих людях. Вообще говоря, с точки зрения целей настоящего исследования само слово «террорист» – чрезвычайно проблематичное. Одна из причин этого – что оно не дает провести отчетливое различение между теми, кто организует атаку, теми, кто ее совершает, и тем множеством людей, которые прямо или косвенно ее поддерживают. Следует ли полагать террористами их всех или только некоторых – и если так, то кого именно? Иная связанная с этим словом проблема заключается в том, что его можно навешивать на определенную породу людей, совершающих акты насилия «террористов», в качестве ярлыка. Предполагается, что террористы попросту одержимы террористической деятельностью и оправдывают свои злодеяния чем угодно – то религией, то какой-то идеологией. Исходя из подобной логики, получается, что терроризм существует потому, что есть террористы, и стоит нам только от них избавиться, как мир сразу вздохнет с облечением.
Сколь ни соблазнительно такое решение, на самом деле граница между «террористами» и их сообщниками, которые «не-террористы», очень тонка. Кроме того, непонятно, является ли «террористом» некто, еще не приступивший к подготовке теракта. Хотя в любом обществе есть и социопаты, и те, кто получает от убийства садистское удовольствие, они редко оказываются вовлечены в умышленные публичные акции, которые мы связываем с терроризмом, и лишь немногие исследования по терроризму отправляются только от личных качеств. Работы по психологии терроризма имеют дело с психологией прежде всего социальной – в них изучается то, как люди реагируют на те или иные групповые ситуации, открывающие возможность для публичных актов насилия [8] См., напр., доклады с организованной Международным научным центром имени Вудро Вильсона конференции по психологии терроризма: Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, States of Mind / ed. Reich W. Woodrow Wilson International Center for Scholars, Cambridge University Press, 1990.
. Лично я не знаю ни одного исследования, в котором бы заявлялось, что люди могут быть террористами просто «по своей натуре». Хотя у отдельных вовлеченных в религиозный терроризм активистов и были психологические проблемы, остальные кажутся вполне нормальными и социально приспособленными, но попадают в специфические группы и перенимают крайние взгляды.
По большей части вовлеченные в религиозный терроризм люди похожи на доктора Баруха Гольдштейна, убившего более тридцати мусульман, когда те молились в Пещере Патриархов в Хевроне. Гольдштейн был врачом, вырос в семье среднего достатка в Бруклине и получил профильное образование в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна в Бронксе. Приверженность радикальному сионизму привела его в Израиль в поселение Кирьят-Арба, но за долгие годы политической активности – он руководил предвыборной кампанией рабби Меира Кахане, когда тот избирался в местный парламент, – Гольдштейн не казался ни безумцем, ни негодяем. До хевронского нападения его самым громким политическим актом было письмо в редакцию New York Times [9] Барух Гольдштейн, письмо в редакцию New York Times (30 июня 1981 года).
. Если Гольдштейн и был «перверсивной личностью» с глубокими изъянами, которые всплыли в какой-то момент на поверхность и превратили его в террориста, нам о них ничего не известно. Известное нам говорит об обратном: по-видимому, он был достойным человеком, подобно своим «коллегам» из ХАМАС, охваченным беззаветной преданностью социальному идеалу своей общины. К столь отчаянному и трагическому поступку его подтолкнула убежденность, что этим идеалу и общине что-то угрожает. Он был, безусловно, зациклен на своих опасениях и даже одержим ими, но навешивать на Гольдштейна ярлык террориста еще до того, как он совершил свой чудовищный поступок, значило бы объявить, что он – террорист по натуре и что все его опасения – пустая клоунада. Судя по имеющимся свидетельствам, оба этих предположения ложны.
Читать дальше