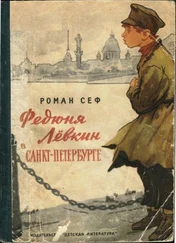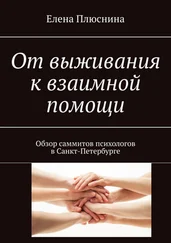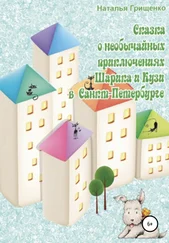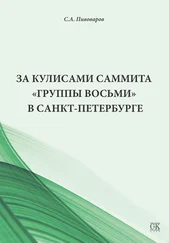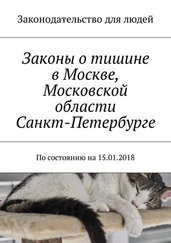Упомянув богослужение, можно проиллюстрировать сказанное простым, всем известным примером: первая часть литургии в православной традиции неслучайно называется литургией оглашенных (а точнее, оглашаемых, см. п. 2.2.3 ) – не потому, что она предназначена только для проходящих оглашение, но потому, что наряду с верными, полноправными крещеными членами Церкви здесь присутствуют катехумены и их присутствие выделено, подчеркнуто, обозначено особо.
Катехизация обеспечивает приток «свежей крови», благодаря которой должен постоянно омолаживаться церковный организм, не в смысле возраста (катехуменами становятся часто и люди совсем преклонного возраста), а в смысле дерзновенного, восторженного, доверительного желания стать учеником Христовым, последовать за Христом. Дерзновенный порыв неофитов должен быть всегда на виду, он нужен Церкви как адреналин, как допинг.
1.7.2. Ученичество – идентичность (identity) Церкви
Ощущение неведомого, непознанного, но манящего и пленительного, подобно тому, что чувствовали евангельские ученики, – вот что движет теми многими, кто приходит в Церковь и делает в ней первые шаги. Так было и есть во все времена, в том числе и сегодня. Часто их называют неофитами. Иногда этому термину придают негативный оттенок: мол, начинающие, неопытные, незрелые, а то и вовсе «недоношенные». Но все-таки о неофитах лучше говорить прежде всего в положительном смысле – как о тех, кому свойственна доверчивая и романтическая эйфория ученичества. Именно таким неофитским восторгом было пропитано первоначальное христианство – он льется на нас широким, безудержным потоком со страниц Книги Деяний святых апостолов, повествующей о первых днях и годах истории Церкви. К сожалению, со временем свежая и всегда новая благодать ученичества перестала, так сказать, пользоваться широким спросом, упала в рейтинге, стала отходить на второй план, оттесняться на периферию, чтобы окончательно уступить место уверенному знанию верных, то есть тех, кто уже обрел свое место в Церкви, оставив позади стадию ученичества. Церковь стала собранием, состоящим по преимуществу из тех, кто давным-давно прошел в том или ином виде свою катехизацию, свое воцерковление или какой-то иной способ вхождения в пространство Церкви. Воцерковился/воцерковилась , стал(а) воцерковленным/воцерковленной (глаголы и причастия совершенного вида) – таково ощущение подавляющего большинства тех, кто с той или иной регулярностью исповедуется, причащается (пусть даже раз в год), служит в Церкви в том или ином качестве и знает, как себя здесь вести и что его/ее ждет и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра.
Такое самоощущение, судя по всему, пришло довольно скоро, – возможно, это началось тогда, когда «ученики стали называться христианами» (Деян. 11:26). Восприятие себя (самоидентичность) как учеников стало постепенно уходить, сменяясь самоощущением (самоидентичностью) последователей определенного учения со своей традицией, школой и т. п.
За прошедшие многие века и в течение жизней многих поколений Церковь много накопила, чем все мы, безусловно по праву, хвалимся. Но одновременно эти наши несметные церковные богатства действуют и как своего рода баррикада, через которую не всегда возможно перепрыгнуть желающим войти. Примитивное, всем хорошо известное и наглядное подтверждение – наличие злых, ворчливых «старух» (пишем в кавычках, так как возраст тут совершенно не важен, важно мироощущение полуневежественного и потому нетерпимого «всезнайства»), которые учат любого входящего в храм. На них все сетуют, а ничего сделать-то и не могут (какие бы авторитетные увещевания на сей счет ни сотрясали воздух с самых высоких трибун и амвонов).
Не могут, потому что причина – гораздо глубже и серьезнее, так сказать, системнее, чем просто плохие характеры. Мы явно имеем дело с каким-то стойким наработанным веками синдромом, которым как будто неминуемо, рано или поздно становится обуреваем чуть ли не любой пришедший в Церковь. Еще недавний ученик через какое-то время учит других, вплоть до того, как одеваться и как перемещаться по храму. Напрашивается сравнение с благодатным огнем, который, как говорят, поначалу горит, сияет и удивляет, при этом никого не обжигая, а потом превращается в обычный огонь, от которого нужно держаться подальше, созерцая издали, иначе банально обожжешься. Конечно, жизнь и историю Церкви не повернешь вспять. Требования «вернуться к первозданной простоте», игнорируя многосложное устроение Церкви сегодня, наивны и нереалистичны. И вместе с тем вполне реалистично и осуществимо придание самого важного, почетного и видного места тем, кто не просто называет себя учеником, а является таковым в силу того простого и очевидного обстоятельства, что он действительно делает первые шаги в Церкви, действительно начинает учиться христианству и пребыванию в Церкви. Их надлежит вывести вновь на самый первый план – и тогда омолодится (не в возрастном, а в духовном или хотя бы даже психологическом смысле), «обновится, яко óрля, юность» (Пс. 102:5) Церкви.
Читать дальше
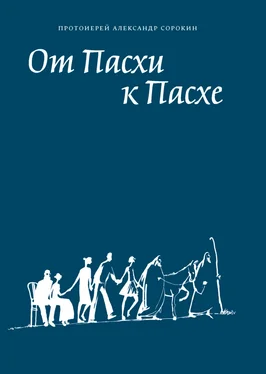
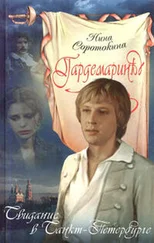
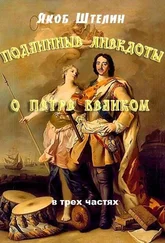
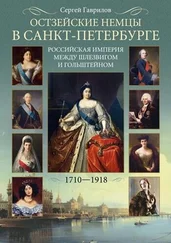
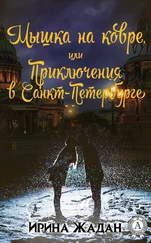
![Татьяна Богатырева - Каникулы в Санкт-Петербурге [litres]](/books/395980/tatyana-bogatyreva-kanikuly-v-sankt-thumb.webp)