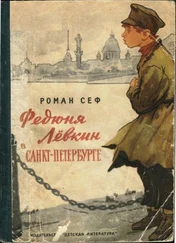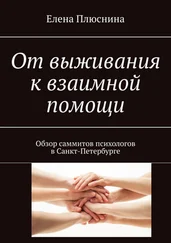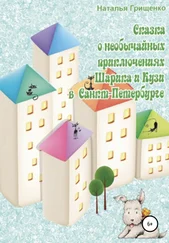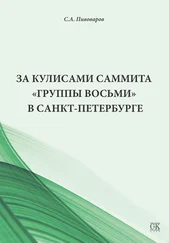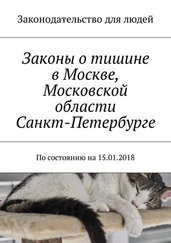1 ...8 9 10 12 13 14 ...19 Может быть, потому, в силу данных печальных обстоятельств, постепенно и обесценилось высокое, достойное и уникальное звание катехумена, о котором столь убежденно говорили и писали многие святые отцы, чьи высказывания мы привели выше?
Наконец, в древних византийских богослужебных книгах, вплоть до средневековья, не существовало главы „како младенца крестити страха ради смертного“, ибо этого „страха“ не было, так как непосредственно после воцерковления дети считались христианами [14]: по определению как Евхология, так и Потребника Патриарха Филарета, они суть „некрещеные христиане“; здесь взрослые оглашенные сравниваются с младенцами, находящимися в ожидании крещения» [15].
Небезынтересно предположение, связанное как с богословием, так и с филологией. Оно может объяснить использование в нашем языке термина «крещение», образованного от слова «крест», но никак не связанного с изначальной идеей погружения в воду. А между тем, именно эта «водопогружательная» идея составляет этимологию и смысл изначального греческого βάπτισμα (бáптисма). Вероятно, под крещением в Византии понималось принятие катехуменом Креста в начале Второго оглашения – заключительного этапа катехизации, начинавшегося в Крестопоклонное воскресенье. В этот день, или, точнее, в понедельник после него, читалась молитва, сохраненная в нашем Требнике под своим первоначальным названием «во еже сотворити оглашеннаго» ( см. пп. 2.2.4 и 6.3.4 ). В рубрике перед молитвой мы читаем: «…и знаменует чело его и перси трижды…» Так совершалось своего рода «первое крещение», или «пред-крещение» [16].
Отвечая на вопрос о задачах катехизации, можно было бы ограничиться напоминанием о том, что есть катехизация по определению, а именно – научение истинам христианской веры с целью привести человека ко Христу, показать ему, как войти, вступить в Церковь Христову (см. пп. 1.1.1). Под «войти» или «вступить» имеется в виду обрести восприятие Церкви как родного дома, дома Отца, семьи братьев и сестер, перестать чувствовать себя чужим, понимать, что происходит в храме как в месте церковного собрания, о чём говорится на богослужениях, избавиться от страха сделать здесь что-то не так, разобраться, что такое христианство и, в частности, что в нем главное, а что второстепенное.
Если же заняться конкретизацией, то получится, что задач тут несколько. И, как часто бывает, сознательно формулируя для себя какую-то одну задачу, ставя какую-то одну цель, человек неожиданно для себя достигает и других целей, которых изначально, по крайней мере сознательно, перед собой даже не ставил.
1.6.1. Получение достоверных знаний
Одна из задач – сообщить катехуменам знания об Иисусе Христе, о Священном Писании, о Церкви, о православной христианской вере. О Боге, наконец. Вернее, о том, как учит о Боге Церковь: что мы можем сказать о Нем, а чего мы точно не можем сказать. Иными словами, научить апофатизму [17]как верному и наиболее этичному по отношению к Богу принципу христианского богословия.
Здесь мы говорим именно о знании, об интеллектуальном усвоении учения, различного рода информации (исторической, богословской, нравственно-наставительной и другой) в её минимально возможных полноте и систематичности.
Важный эпитет в заглавии параграфа – «достоверных». Имеются в виду знания и информация, полученные из первоисточника и потому достоверные.
А что же за первоисточник? Казалось бы, ответ прост: первоисточником знаний об Иисусе Христе является Библия, а точнее, Евангелие.
Да, это, безусловно, так. Но такой ответ неполон и потому не совсем удовлетворителен. Как известно, Христос не оставил ни одного письменного документа, книги, завещания или чего-то такого, что было бы Его авторизованным текстом. Евангелия же – писания, созданные Его учениками. И ценность их – не только в сходстве в главном, но и в не меньшей степени – в их разнице: в различном подборе материала, который они излагают, в различных акцентах, с которыми они доносят до нас схожие или даже одни и те же сведения, порой не избегая и противоречий. Важно, что ученики, писатели Евангелий, были плоть от плоти конкретных христианских общин – церквей в изначальном смысле этого слова, допускающем множественное число, то есть собраний верующих, рассеянных повсюду. Да и Сам Христос потому ничего не написал, что видел Свою задачу оставить Свое учение не в виде букв и слов на папирусе или бумаге, а в лице живой общины учеников – сначала Двенадцати, а потом многих других собраний, общин, составляющих и поныне Вселенскую Церковь.
Читать дальше
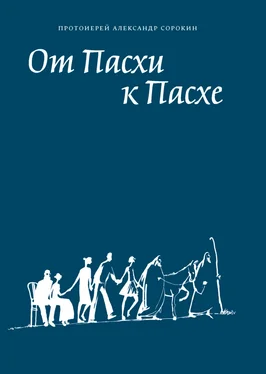
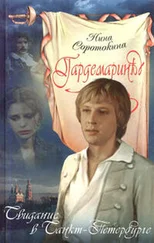
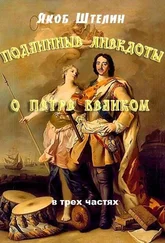
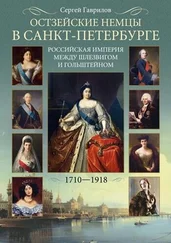
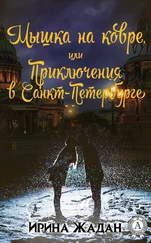
![Татьяна Богатырева - Каникулы в Санкт-Петербурге [litres]](/books/395980/tatyana-bogatyreva-kanikuly-v-sankt-thumb.webp)