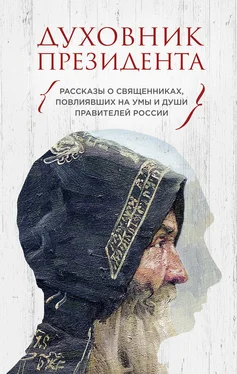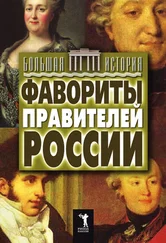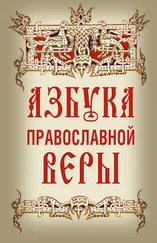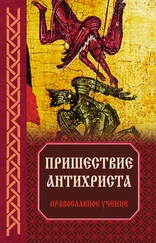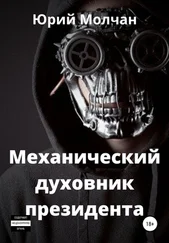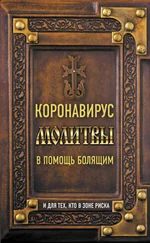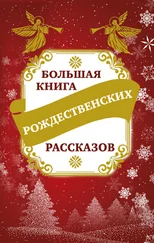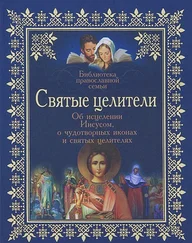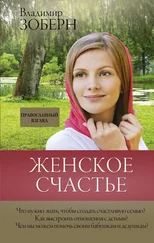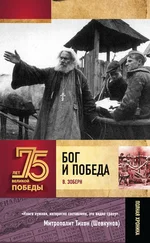Довольно часто его характеризуют как человека «характера слабого и злого», который «никогда не обнаруживал ни политических, ни военных талантов». Василий II после смерти отца стал великим князем в десять лет – «и, следовательно, лет десять не мог сам управлять, в 16 лет был слепцом. При всем том сила и значение Москвы в его тридцатидвухлетнее княжение, в продолжение которого он 26 лет не мог править то по молодости, то по слепоте, не только не умалились, но еще возросли» (ЭСБЕ).
Русский историк И. Е. Забелин иначе характеризует великого князя Василия, называя его человеком смирным и добрым, «который все случавшиеся бедствия больше всего приписывал своим грехам», впрочем, не отрицая его уступчивости и слабоволия.
Василий Темный остался в истории как правитель, чье великое княжение было омрачено тяжелой смутой. «И была, – говорит летописец, – между боярами брань великая и слово недоброе». Сама природа словно карала за что-то Василия – его княжение сопровождалось народными бедами – эпидемией, засухами, голодом. «В то же время и в семействе Калиты открылась небывалая усобица» (ЭСБЕ).
Князь Василий Васильевич правил с перерывами с 1425 по 1462 год – несколько раз он терял престол в междоусобной борьбе со своими родственниками, бывшими при этом его политическими противниками. Жизнь он прожил недлинную и тяжелую – подвергался унижениям, побывал в ссылке и в плену у монголо-татар, а свое прозвание «Темный» получил потому, что был ослеплен своим недругом Дмитрием Шемякой.
В доме Шемяки князю Василию выкололи глаза, осыпая его при этом руганью и клеветой. Но среди многих лживых Шемякиных измышлений один укор был правдой: зачем ослепил брата моего Василия Косого? И великий князь ответил своему палачу словами высочайшей христианской мудрости: «Благодарю тебя! Ты дал мне средство к покаянию».
Слепоту люди считают величайшим несчастьем. Но князь Василий принял эту беду как дар Божий. То была справедливая кара за совершенный им в юности грех: ослепивший некогда своего противника сам потерял свет очей. То был зов Божий: покаянием очиститься и от этого преступления, и от многих других нечистот, оседавших на душе великого князя среди былой чести и власти. И горькие, спасительные слезы покаяния струились из невидящих глаз Василия Темного – так прозвал народ царственного слепца. Обступившая его темнота помогла просветлению его духовного взора.
Василий II, на долю которого выпало столь тяжелое правление, был одним из тех московских князей, которые стояли у преддверия Русского Царства. Он продолжил дело предшественников – объединение Руси в сильное государство и избавление ее от иноземных захватчиков. В будущем уже смутно просматривается грозный лик первого русского царя Ивана Васильевича, а сейчас народ, вкусивший горя смут, все яснее и яснее осознает, что такое данный Богом государь.
Вдохновитель и утешитель
Когда мы желаем узнать о каком-либо правителе, то редко находим рассказы о влиянии на него духовных наставников. А ведь это было важно для формирования личности государя в те времена, когда религиозность была всеобщей и не напускной, и православный взгляд на мир определял многие поступки людей.
XIV и XV века подарили России множество святых подвижников. Одним из них был преподобный Мартиниан Белозерский, ученик святого Кирилла Белозерского. Уроженец сурового северного края, родившийся к тому же в крестьянской семье, он с ранних лет готов был к лишениям и испытаниям монашеской жизни.
Житие святого Мартиниана, в миру Михаила, рассказывает о том, что его родители, не зная, к кому отдать сына в обучение, привели его в Кирилло-Белозерский монастырь, находившийся в 30 верстах от их села.
Это было около 1410 года, когда Михаилу не исполнилось еще и 14 лет. Увидев преподобного старца, благочестивый отрок упал ему в ноги и неотступно умолял его: «Возьми меня к себе, господин!»
Тронутый детскими мольбами, подвижник с радостью и отеческой любовью принял его к себе. В то время близ Кирилловой обители жил дьяк Алексий Павлов, который был известен по округе своим искусством в обучении грамоте. Преподобный призвал его к себе и сказал: «Друг, исполни для меня заповедь любви Божией: научи грамоте отрока, которого видишь, и сохрани его как зеницу ока, во всякой чистоте».
Книжное учение пошло юноше на пользу – став иноком, он, по благословению преподобного Кирилла, исполнял важное послушание – переписывал книги. Не секрет, что в те времена именно монастыри были светочами культуры, и роль переписчиков в этом была огромна. Не гнушался Мартиниан и другой трудной работы в обители – в хлебне, пекарне, – на которую отправлял его игумен. Он был истинным иноком и глубоким молитвенником. «Видя его ревность, – говорит житие, – святой Кирилл сделал его клириком, а спустя немного времени преподобный Мартиниан был посвящен во иеродиакона, потом во иеромонаха».
Читать дальше