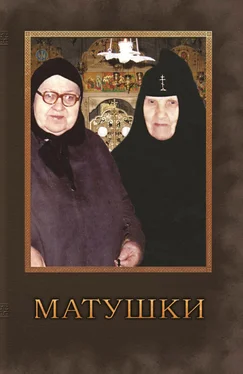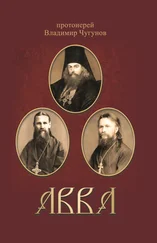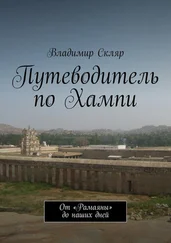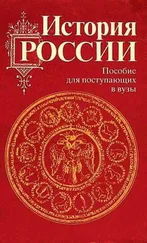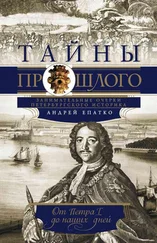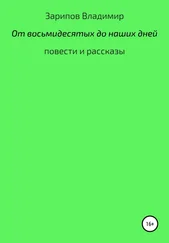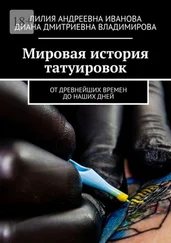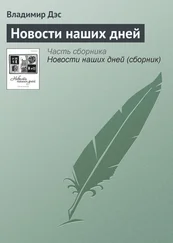И ещё одно наставление старцев было непременным матушкиным правилом. Называется оно «От меня это было». И начинается так:
«Думал ли ты когда-либо, что всё, касающееся тебя, касается одинаково и Меня? Ты чадо моё, Я отец Твой Небесный, источник вечной жизни Твоей! Всё, касающееся тебя, касается зеницы моего Окa – ты дорог Мне и в очах Моих многоценен. Я возлюбил Тебя и для Меня составляет особую отраду воспитывать тебя.
Когда искушения восстанут на тебя и враг души твоей, как река, изольёт на тебя всю силу волн своих, Я хочу, чтоб ты знал:
От Меня это было…
Что немощь твоя нуждается в силе Моей, ибо без Меня ничего не можешь творить и безопасность твоя заключается в том, чтобы дать Мне возможность бороться за тебя. Находишься ли ты в трудных обстоятельствах, знай, что:
От Меня это было…
Ибо Я Бог, располагающий обстоятельствами. Ты не случайно оказался на своём месте, это то самое место, которое Я назначил тебе. Тот крест, который дал тебе, тот путь, который тебе предназначил. Я вверяю тебе эти трудности, и благословение почиет на всех делах твоих. В сей день даю в твою руку молитву, призывающую Мою помощь, как сосуд елея освященного, – пользуйся им свободно, дитя моё. Каждое возникающее затруднение, каждое оскорбление, каждая помеха в твоей работе, каждое откровение твоей немощи – да будут помазаны этим елеем. Помни, всякая помеха – есть Моё наставление. Всякое жало притупится, когда научишься видеть во всём, что бы ни коснулось тебя, перст любящей десницы Моей. А потому положи в сердце слова, которые объявляю тебе:
От Меня это было… »
* * *
Великим постом порядок жизни в этом тайном монастыре был следующим.
Начиная с Чистого Понедельника, ежедневно ходили утром и вечером на Антиохийское подворье. Молитва Ефрема Сирина – «Господи и Владыка живота моего…», которая умиляла Пушкина, и которую он переложил на стихи, – произносилась служащим священником перед закрытыми Царскими вратами за время продолжительной службы множество раз, с земными и поясными поклонами. Великий канон преподобного Андрея Критского, читаемый первые четыре дня Великого поста, во время которого всегда стояли с зажжёнными свечами, и по прочтении каждого тропаря, а их было много, и все они призывали к плачу о грехах, с припевом «Помилуй, мя, Боже, помилуй, мя», – матушки слушали уже много лет подряд. И всякий раз покаянное настроение касалось грешных, как они искренне считали, душ. Таких грешных, что и глаза порой было стыдно поднять на образ Распятого на кресте Спасителя, предстоящую Ему скорбную Матерь и любимого ученика. На исповедь, если только не проводили первую неделю поста под Мало-Ярославцем, шли с тем же сознанием своего ничтожества, своей крайней степени окаянства на Антиохийское подворье. И, казалось бы, странным было видеть в этих одетых во всё черное старушках с необыкновенно добрыми, светлыми лицами русских бабушек и милых нянь такое глубочайшее самоуничижение и уж тем более покаянные слёзы, которые текли из их по-своему прекрасных глаз. И ещё более непонятным могло показаться всё это самоумаление? Но сколько на эти темы не было говорено, все верующие спокон века, не обращая внимания на это «умное говорение», смиренно, тихо и незаметно делали своё дело. Иначе, жили своей, им одним понятной жизнью. И «валяясь и ползая в ногах», были «чему-то» рады и необыкновенно счастливы.
В обеих кельях, как и во всех храмах во время «покаяния и молитв», всё так же одевалось в чёрный покаянный цвет. Были накидочки в келье матушки Варвары и на этажерке, и на иконах – и афонские огоньки лампад, ма-аленькие такие светящиеся точечки над поплавками, выделялись на этом покаянном фоне в эти дни как-то особенно скорбно.
Последние годы жизни ходили в храм Рождества Пресвятой Богородицы, что стоял во дворе вновь открытого монастыря. И это не по лености не ездили они к духовнику под Мало-Ярославец, а ввиду искушения. Искушение весьма и весьма распространённое в монашеской среде. Духовника взяла в оборот ретивая келейница, пытаясь восстановить его против обеих матушек исключительно по неразумной ревности. И оговаривала, и оговаривала… Пришлось отойти от греха, не дать тлеющим головешкам разгореться… И головешки, так и не разгораясь, тлели до самой смерти духовника. Об этом сообщали приезжавшие от отца Парфения духовные сёстры. Сам отец Парфений в данном случае ни в чём не погрешал. По примеру Христа он готов был оставить всех не заблудших ради оной заблудшей овцы. И матушки это прекрасно понимали. Не было ни обиды, ни зависти – была только сердечная молитва за болящую сестру…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу