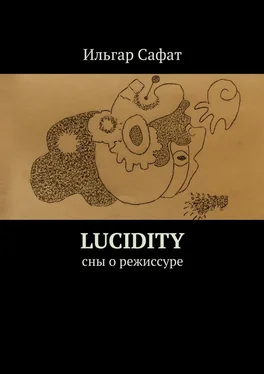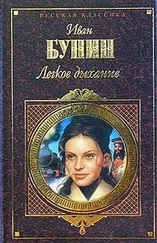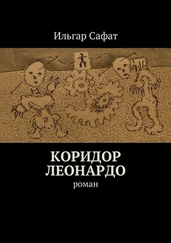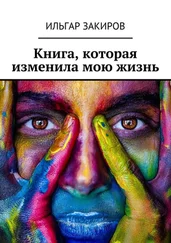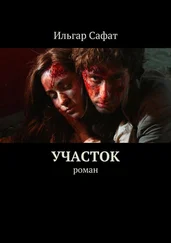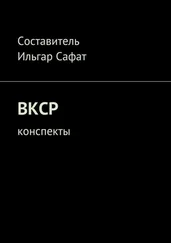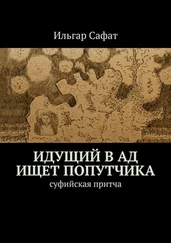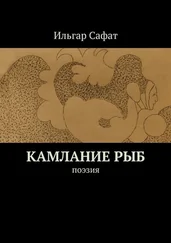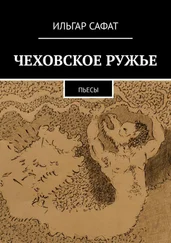Попробуем повторить эксперимент под названием «путешествие за мыслью». Сегодня, признаться, я не чувствую себя в той форме, в том напряжении, что было вчера (см. гл. №3). Если вчера у моей мысли была четко очерченная вертикаль, то сегодня все как-то разжижено, растянуто по горизонтали. Правда, объем мысли, хотя и растянутой, вполне приличный, – я сам не вижу ее границ. Мыслью занят весь горизонт, все поле восприятия реальности. Вчера же она пульсировала, находясь в одной точке, – словно растение, прорастающее сквозь толщу земли, мысль тянулась в невероятном усилии ввысь, зацепившись за один силовой пятачок. Точка пульсации мысли вчера располагалась где-то в темени. Сегодня же «точки» как таковой нет вовсе, а мыслящее поле ощущается в области затылка. Странно, мыслить человек может каким угодно клочком своего тела. Силовая доминанта мысли может находиться в любом уголке человеческого организма. Собственно, тело человека само и есть некая мыслящая структура, мыслящий организм, беспрерывно осваивающий реальность: себя в реальности и реальность в себе. То же самое относится и к механике чувств. Чувство ведь тоже есть одно из средств освоения мира, природы – человеком, – один из механизмов и уровней мышления. В этом смысле можно заметить, что сегодня мой способ постижения реальности ближе к уровню чувств. Слова и сами мысли как таковые даются довольно тяжело. Во мне сегодня преобладают тенденции бессознательного. Бессознательное размывает мою интеллектуальную сущность, оставляет только некий чувственный объем, пассивно соприкасающийся с миром. Сложно отыскать себя в этих чувственных потоках среды. Я растворен в бессознательном, бессознательное растворено в среде, и мне уже трудно выделить во всем этом месиве свое сущностное ядро: что же здесь все таки есть я? Только что мне подумалось, что в этой ситуации, пожалуй, только два стимула могут вывести меня из состояния некого духовного оцепенения, беспочвенности. Боль и память. Болевой стимул может мгновенно отбросить меня к моему смысловому ядру, – это прием чисто технический. В отношении же памяти необходима опять таки определенная работа и немалое усилие, – это во всех смыслах полезная практика, т.к. она затрагивает сразу несколько жизненно необходимых нам духовных сфер. Тут в действие приводится: 1.) интуиция(с помощью которой мы должны будем отыскать сам объект воспоминания), 2.) внимание(которое мы должны концентрировать на объекте воспоминания), 3.) мысль(которую мы будем нашим воспоминанием пробуждать), – словом, все самое полезное в нашем психическом аппарате. Память – это важнейшее. Суфийское «вспоминание Аллаха», «беспрерывная молитва» святых отцов православной церкви, или все то же «вспоминание себя» Гурджиева, – все это, в сущности, одна и та же практика. В каждом конкретном случае у человека разные святыни, – это дело традиции и места рождения. Но механизмы, пожалуй, везде одни и те же. Впрочем, я и тут не берусь утверждать что-либо определенное: я только описываю свои ощущения. Все это, конечно же, лабиринт. Но я не вижу иного способа выбраться из него, кроме как с помощью мышления. Иногда из этого лабиринта меня выхватывает Нечто, – это всегда экстремальный накал переживаний. В них я не принадлежу себе, хотя именно в таких переживаниях я и обретаю свой наибольший духовный объем. И состояние эйфории, какого-то пугающего блаженства, отрывающего от земли, вырывающего мою душу из капсулы моего тела, – состояние это потом долго еще не отпускает меня в сомнамбулических токах мира «реального», внешнего. Я проваливаюсь в новую реальность, в новое время, и уже не могу узнать себя прежнего: ведь человек это не только совокупность качеств, но еще и капсула времени… —
У нас на курсе, среди филологов, ходила некогда забавная побасенка, – что, мол, Сэмюель Кольридж в период своей болезни летом 1797 года (послужившей, как известно, отменным обстоятельством для создания автором его знаменитого «Видения во сне, или Кубла Хан», о котором мы читали у Борхеса), – велел вышить бисером на подушке, служившей ему в ту пору, золотой изогнутый ятаган, полумесяц разящей сабли. Оружие это символизировало, по тогдашнему нашему незрелому представлению, единственный и последний оплот хворого поэта: его дивные грезы, феерические фантазмы, видения и миражи. Дальнейшие же наши литературоведческие измышления весьма, однако, видоизменили этот художественный миф: оружие романтического поэта теперь отнюдь не сон, не видения и не сказочные его дремы, – но нечто иное, отчаянно им противоборствующее. Клинок разит небытие. В последней из сохранившихся од («Алкмеон», Пиф. 8) фиванца Пиндара, из Киноскефала, сына Даифанта, – читаем великолепные, незабываемые строки о прискорбной доле человеческого рода: «Сон тени – человек!». Люди – это только скоротечные вспышки, излучения и миражи некой Вселенской Воли, Вселенской Души. Некто, Существо, не поддающееся никаким моральным или философским определениям, – Некто мыслит наш мир. Фантазмы Его, вся Вселенная, все мы, мир, человек, – все это лишь временные психические вспышки. Волны. Импульсы. Миражи. Все мы, наш мир – это лучи Сверхсознания: мертвого (если верить Ф. Ницше), но несущего свои космические вибрации механически и инерционно, – подобно тому, как мы видим в небесах свет далекой звезды, давно уже угасшей. «Наш мир – на грани исчезновения!», говорят суфии. Излучения. Или – сны. Так, может быть, и Кольридж боролся с некой роковой Тенью, чьим Сном он себя никак не хотел признавать, – а потому и велел вышить на своей подушке золотой ятаган: наивно, конечно же. Но ведь поэты, а романтики в особенности, – всегда отличались своей экстравагантностью. (Нам достаточно вспомнить славного опиокурильщика Эдгара Алана По). Да и романтизм в целом, как культурное явление, знаменит своим богоборчеством и демонизмом: «Сон тени – человек!», – это недопустимо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу