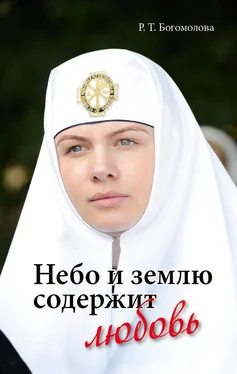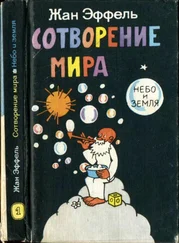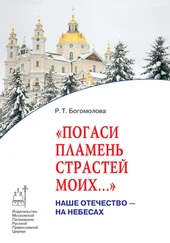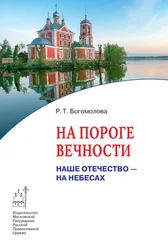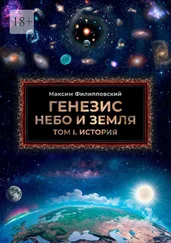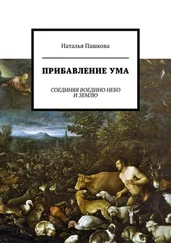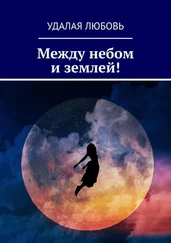Я не имею и любви к ближним. Ибо не только не могу решиться для блага ближнего положить душу свою (по Евангелию), но даже и не пожертвую моею честью, благом и спокойствием для блага ближнего. Если бы я любил его по евангельской заповеди, как самого себя, то несчастье его поражало бы и меня, благополучие его приводило бы и меня в восхищение. Напротив, я выслушиваю любопытнее несчастные повести о ближнем. Не сокрушаюсь, а бываю равнодушным или – что еще преступнее – нахожу как бы удовольствие в этом.
Худые поступки брата моего не покрываю любовью, но с осуждением их разглашаю.
Благосостояние, честь и счастье его не восхищают меня, как собственные, не производят во мне радостного чувства, но еще и возбуждают во мне зависть или презрение».
Таков он, выжженный самолюбием и безлюбием страшный внутренний мир современного человека…
Подмена веры
Оптинский старец Варсонофий однажды процитировал своим духовным чадам стихотворение М. Ю. Лермонтова:
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Старик иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Старец Варсонофий объяснил: «Этот нищий, о котором говорит Лермонтов, и есть он сам. А „кто-то“ – сатана, подкладывающий камень вместо хлеба, подменяющий веру».
«К сожалению, – пишет архимандрит Рафаил (Карелин) в книге „Умение умирать, или Искусство жить“, – очень часто наше душевное состояние (я говорю о людях верующих) – это какое-то полуверие, постоянно продлевающийся компромисс. Мы верим в Бога, мы принадлежим Православной Церкви и не поклоняемся другим божествам, но Господь занимает не главное место в нашей жизни.
Если бы нашу внутреннюю жизнь, наши помыслы и чувства можно было заснять на кинопленку и показать нам самим, то мы увидели бы, какой хаос царит в нашей душе и как мало места принадлежит в ней Богу. Даже когда мы стоим на молитве, то до нашего сознания едва-едва доходит смысл молитвенных слов. Сама по себе молитва – средство общения души с Богом, а у нас она почти всегда остается отключенной от разума и сердца.
Мы признаем Бога, но при этом отводим Ему место в каком-то уголке своего сознания и продолжаем жить той же чувственной, страстной жизнью. Если Бог есть – значит, все в Его власти. А у нас парадокс: мы говорим, что Бог есть, но не верим, что все подвластно Ему, и потому всегда пребываем в тревоге и беспокойстве. Мы верим в Бога, но когда необходимо реальное исполнение воли Божией, то оказывается, что Богу мы не доверяем.
Отрешиться от своих собственных представлений и всецело положиться на Промысл Божий нам страшно: это значит для нас потерять привычную опору (хотя мир-то как раз и не дает, на самом деле, никакой опоры). Вот почему мы и призываем Бога, и в то же время страшимся целиком поверить Ему и совершенно предать себя Его воле».
Признаки смерти духовной
Постепенно отпадая от Бога, мы духовно умираем. Священномученик Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий, так определял признаки духовной смерти:
«Как есть признаки приближающейся физической смерти (болезнь, дряхлость, ослабление слуха, зрения и т. п.), так есть и признаки смерти духовной. Это, во-первых, постепенное притупление совести, которая привыкает к греху, и человек приучается прощать себе все, совесть не требует больше покаяния.
Кроме того, возникает охлаждение к молитве, к чтению книг духовного содержания, легкая восприимчивость соблазна на грех, раздражительность, озлобление, чувство мести, ненависть и т. п.
Все вышеназванные состояния души присущи человеку духовно больному, что отражается и на внешнем его виде и поведении (мрачный взгляд, озлобленное лицо, грубость манер, неприятно-резкий голос и т. п.), они постоянно низводят человека до полного духовного омертвения».
Божественная Любовь – спасение наше
В книге «Записи» священник Александр Ельчанинов писал: «В Первом послании евангелиста Иоанна говорится о Божественной Любви, о той Любви, которая покрывает множество грехов, которая отменяет закон, заменяет исполнение всех заповедей. О той Любви, которая дает жизнь, потому что приводит в соприкосновение с Источником Жизни…
Мы думаем о себе, что мы причастны этой Любви: каждый из нас любит что-либо, коголибо. Если и есть люди, которые ничего не любят, уже здесь пребывающие „во мраке преисподнейшем“, то это редчайшее явление. Мы все любим близких, родных, друзей, людей нашего образа мыслей. Но та ли это Любовь, которую ожидает от нас Христос?
Читать дальше