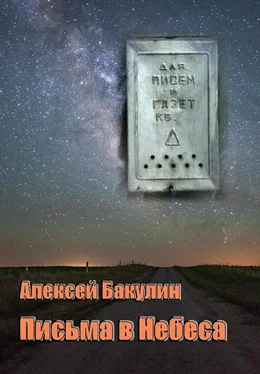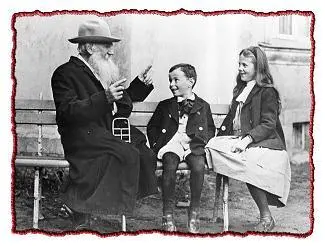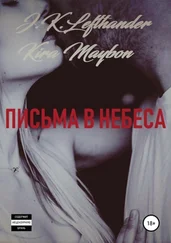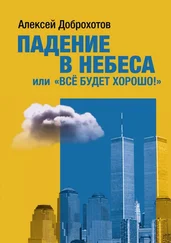И довольно об этом. Подойдём лучше к могиле Ольги Берггольц — вот где надгробье изумительное! Я сейчас не говорю о самой поэтессе: её поэзия — особое явление в жизни великого города и так же неотъемлема от него, как Александрийский столп или Ростральные колонны. Но вот надгробие: сколько жизни, сколько надежды! Много писали об этом памятнике, на котором поэтесса изображена на фоне огромного окна, — легко заметить, что в оконную раму тайно вписан крест, да и само окно нельзя трактовать иначе, как указание на иной мир, лучший мир, — окно, открытое в небеса…
Удивительное ощущение не покидает вас, когда вы ходите по Литераторским мосткам: великие имена, встречающиеся здесь на каждом шагу, дышат таким смирением, скромностью и миром, что пропадает всякая отчуждённость, всякая хрестоматийность. Ты стоишь лицом к лицу с великими тружениками русского духа — и чувствуешь себя в кругу родственников, в кругу старших братьев, любящих, понимающих, способных помочь…
И не удивительно, что, встретив могилу человека, которого знал при жизни, чувствуешь желание раскланяться с памятником, и невольно произносишь вслух: «Здравствуйте, Андрей Юрьевич!» Такое было со мной у могилы Андрея Толубеева. Встречался с ним за год до его смерти, расспрашивал о том, как та или иная роль влияет на душу актёра. И знаменитый артист размышлял, оценивал, судил свои роли — не для меня, не для газеты, — в первую очередь для себя самого. Кстати, выглядел он тогда хорошо — мне и в голову не приходило, что скоро его не станет… А вот теперь иду по кладбищу, и встречаю его могилу, и пытаюсь понять: как ему там? покойно ли спится? Литераторские мостки полны мира и покоя, и могила Андрея Толубеева ничем не противоречит этой небесной тишине — вокруг неё так же мирно и светло, как и повсюду здесь…
В России много святых, и они молятся за нас, русских. А здесь, на Литераторских мостках, святых, наверное, нет. Нам самим нужно молиться за этих людей, — и вместе с ними молиться. Тут, на кладбище, стоит храм Воскресения Словущего. Отчего бы нам, православным, не заходить в эту церковь почаще да не писать поминания о наших учителях? Как ещё мы можем сказать спасибо Блоку и Тургеневу, Гаршину и Гончарову?
Под сенью Воскресенского храма лежат они, ожидая, как и все, общего воскресения… Но ведь они и не умирали: дела рук их живут; главное, что было в их душах, лучшее, что в них было, живёт. На Литераторских мостках слова «жизнь вечная» — это не пустой звук: сюда стоит прийти хотя бы для того, чтобы ещё раз почувствовать человеческое бессмертие…
Письмо 2
О СМЕРТИ ЛЬВА ТОЛСТОГО
Сегодня, когда перечитываешь материалы, посвящённые отлучению Льва Толстого от Православной Церкви и последним годам жизни великого писателя, поражаешься в первую очередь вот чему… С высоты прошедших лет ясно видно: для сторонников Толстого отлучение — только повод для злобных, несправедливых и не очень-то умных нападок на Русскую Церковь и на Русское государство. Впечатление такое, что они ждали отлучения, как солдаты ждут сигнала к атаке. До самого Толстого им дела нет, — важно поскорее и погромче выкрикнуть что-то гадкое в лицо властям…
Если же взглянуть на лагерь противников Толстого (не Церкви, но тех, кто на словах поддержал церковное определение), то и здесь, увы, картина не слишком радует глаз: люди откровенно злорадствуют — и чему? — гибели человеческой души. И какой души! Всё-таки Толстой был поистине великим (одним из величайших за всю историю мировой литературы!) писателем, — а это что-нибудь да значит. Он ошибся, оступился, отпал, — но разве это повод для радости?! Великий русский человек гибнет, — тут самое время объявить национальный траур, устроить всероссийское моление о спасении души, о вразумлении заблудшего, может быть, объявить несколько дней всеобщего строгого поста!.. Дело того стоило бы! Поистине, отпадение Толстого — это совсем не то же самое, что отпадение титулярного советника Иванова, купца третьей гильдии Петрова или мещанина Сидорова. За каждую душу надо воевать, о каждом погибшем скорбеть, но если падает Толстой… Видимо, тут мы сталкиваемся с чём-то большим, чем с гибелью отдельной человеческой души.
Да, Толстого сгубила гордыня. Не видя равных себе в литературе (а для России литература — это не просто упражнения в «изящной словесности»), не видя себе равных в даре мыслителя, в силе ума, в остроте взгляда, несчастный решил, что равных ему нет вообще. Нет и не было. Пусть же тот, кто никогда не возносился, первый бросит камень в Толстого. Впрочем, тут надо понимать, что ни в каком грехе люди не сознаются так неохотно, как в гордыне; и пожалуй, «смиренников», желающих бросить камень в писателя, набралось бы великое множество. Что в действительности и произошло. Надо признать, что главным мотивом осуждающих (не Церкви, нет, — но массы людской) была обычная зависть: Толстому не хотели простить его величия. Не хотели простить того, что он граф, и мало того, что граф, он ещё и в писатели лезет, и мало ему графствовать, он ещё и босиком ходит… Как сказали бы сейчас: «Выпендривается!..» До его ереси (подлинной ереси, весьма противной христианству) никому дела не было: еретические толстовские книги в России не издавались по вполне понятным цензурным соображениям, а издания зарубежные и подпольные могли читать только «продвинутые» люди (да и те не много понимали в богословии)…
Читать дальше