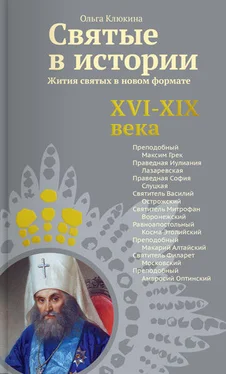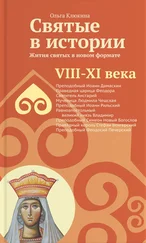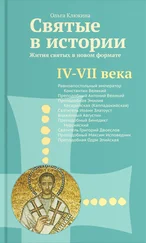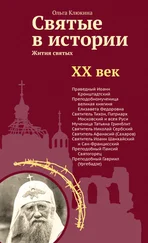Н. В. Сушков так описывает разговор Филарета с московским митрополитом Платоном перед отъездом в Петербург.
«– Подай же мне прошение, что ты желаешь остаться в Московской епархии.
– Желал бы, да сказать этого не имею права.
– Как?
– Я уже подал прошение: о пострижении меня в монашество. Произнеся тогда обет послушания, отрекся я от своей воли – и теперь другого прошения подать не могу».
Санкт-Петербург встретил Филарета неласково: «Я поехал в Петербург в начале января 1809 года. В это время были сильные морозы, доходившие до 30 градусов. Дорогой я простудил ноги, так что и в поздние годы чувствовал боль в ногах…»
Митрополит Платон продолжал хлопотать, чтобы Филарета вернули в Лавру, но ничего не получалось. В письме к епископу Августину от 31 января 1809 года он пишет: «Филарета не отдают! Весьма несовестно: ибо уже что рассматривать, когда было определено его здесь оставить? Но что же делать? Терпеть? Да терпению конца нет!»
В Петербурге Филарет определен преподавателем философии и жалуется в письме к отцу: «Вы знаете, что я люблю богословию, ибо нахожу в ней утешение, но теперь должен заниматься холодной философией. Ход здешних дел весьма для меня непонятен».
В Северной столице он с интересом присматривается к новой для себя жизни, такой шумной, непохожей на его будни в Лавре, и старается идти в ногу со временем. Находит в книжных лавках нашумевшую книгу Канта «Критика чистого разума» и специально выучивает французский язык, чтобы читать популярные тогда сочинения христианского мистика и теософа Сведенборга; шьет себе новое платье и по этому поводу пишет отцу: «Я стараюсь не идти вперед, но не отстать очень далеко».
Хорошо выглядеть его обязывает и последовавшая вскоре новая должность: Филарета назначают инспектором Санкт-Петербургской духовной семинарии и ректором учрежденного при семинарии Духовного уездного училища.
Митрополит Платон просит его у Синода для занятия ректорского места в Троице-Сергиевой Лавре, но на успешного преподавателя и проповедника есть виды в Петербурге, где как раз открывалась Духовная академия.
В начале 1810 года распоряжением Синода Филарет был переведен в Духовную академию на должность бакалавра богословских наук, «поручено ему же и обучение церковной истории». «Бог успокоил меня от многих забот, из коих тягостнейшие мне приносила должность инспектора, к которой я совсем не родился. Теперь я не вижу беспорядков, не слышу ссор, не беспокоюсь доносами: около меня тишина и книги», – пишет он отцу, вспоминая бесконечные инспекционные поездки и разборы жалоб в предыдущей инспекторской должности.
Но «идиллия», которой поначалу показалась служба в академии, быстро рассеивается: Филарета здесь окружает множество недоброжелателей и завистников, которых раздражают его блестящие способности и стремительная карьера. «Жаль только, что здешние дела не всегда идут прямою дорогою; а потому на что ни положишь руку, всегда должно опасаться, чтоб не подтолкнули. Это иногда беспокоит; однако и против этого есть средство. Надобно все принимать не от людей, а от Бога, и все сделается хорошим», – сдержанно упоминает он об этом в письме к отцу.
Зато своему другу по Коломенскому духовному училищу – священнику Григорию Пономареву рисует более широкую картину: «Вообрази себе место, где более языков, нежели душ; где надежда по большей части в передних, а опасение повсюду; где множество покорных слуг, а быть доброжелателем считается неучтивым, где роскошь слишком много требует, а природа почти во всем отказывает…» (1811 год, 5 января).
2 апреля 1811 года Филарет говорил в Петербурге слово на Пасху Христову, услышав в ответ не только одни похвалы. «Он [архимандрит Леонид (Зарецкий)] позавидовал мне и первую мою проповедь на Пасху назвал одою. Но митрополиту Амвросию она понравилась, и он, припомнив, как я часто говорил проповеди в Лавре, советовал мне заниматься этим более здесь.»
Завистников становится еще больше, когда 30 июня 1811 года Филарет в награду за его проповеди был пожалован от императора наперсным крестом с драгоценными камнями.
В июле того же года Филарет был возведен в сан архимандрита.
Меньше чем через год его ждало новое повышение по службе: 11 марта 1812 года он был назначен ректором Санкт-Петербургской духовной академии и профессором богословских наук.
А помимо этого, указом императора Александра I был определен настоятелем Юрьевского монастыря вблизи Новгорода.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу