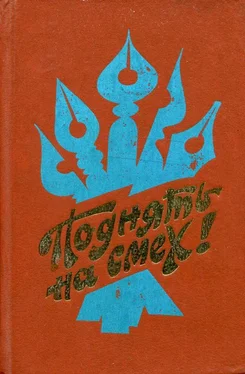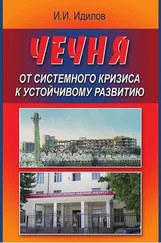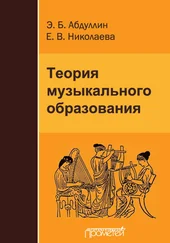Мне ли не знать свою Корболу? О-о, да я в своей Корболу точно знаю, у какой хозяйки когда корова отелилась, когда отелится, у какой корова заяловела, у какой молока не дает. Ведь без этого не узнать мне, в какой юрте бурдюк полон кислого молока, из которого готовят хмельную араку. А я всегда знаю… Еще один хороший «узнавальщик» был — дядя мой Шуткер. Идет он как-то по улице и замечает: что-то из Деткерова аила густой дым валит. Заходит. И видит: на очаге большой черный казан клокочет. И пар над казаном гуще, чем дым из аила худого хозяина, — никак не видно, что варится. Притом уже завечерело. Садится мой дядя возле очага и давай хозяевам байки сыпать про белого бычка. Мелет он, мелет, потом его байки кончаться стали. А хозяин не снимает с огня казан, даже не помешает свое варево, будто и забыл, что у него на очаге казан стоит. Ведь про него, Деткера, каждый знает: он лучше сдохнет, чем поделится с другим. Да и время-то тогда было такое: с едой туго… В конце концов дядя подумал, что терять ему все равно нечего, и решился: набивает в трубку табаку и тащит из огня головешку — на головешке пламя — прикуривает. Потом, чуть привстав, тычет ею в казан. «Как этого вашего молодца-пострела звать? А того, что сопли по щеке размазал? А ту девочку-красавицу, что за казаном сидит, как зовут?» Головешка светит, и ему, конечно, видно, что в казане мясо варится. Значит, можно сидеть хоть до полуночи — не прогадаешь… Вот так… Ну, что парни, еще по одной? Пусть яман поменьше станет, якши побольше…
Сколько историй, не знаю с какой начать…
Расскажу, как учился. В первом классе два года сидел. Вызовет меня учитель к доске и спросит: «Кактанчи — голова два уха, — скажи, что это за буква?» У меня рот через час первый раз открывается, произносит «а», потом еще через час «у» и тут же закрывается наглухо. Ребята смеялись: «Ну, «а-у» выходит к доске…» А во втором классе оказался даже третьегодником. Учусь я в том проклятом втором третий год, вдруг на тебе — мой класс закрывают, учеников мало. Обрадовался я. Думаю, вот случай, в третий переведут, да где там! Сказали: поезжай в район или в соседнее село за перевалом, там есть второй класс. Я долго горевать не стал, прихожу и сажусь в первый, где начинал четыре года назад. Пока карабкался до пятого класса, у меня уже пушок на губе стал пробиваться. Бросил я это мучение… Но если получше подумать: учеба ли у нас тогда в голове была? Мечтали, как бы чего поесть, потом ни одежды, ни обуви… Утром несусь в школу босиком по инею. По дороге два-три раза коров поднимаю — под ними земля теплая, на ней и отогреваю ноги…
А чем я только не занимался! Кем только не был! И сам стал забывать. Кончил школу, стал конюхом. Весной пас лошадей, летом пас, а в сытую осень колхозные аргамаки-скакуны все, как один, захромали. Начальство допрашивает: «Почему? Как пас? Может, ты контра?» Я только глазами моргаю. А что, вы думаете, было-то? Выгоняю лошадей в ночное; двух-трех, которые получше, заарканю и привяжу. Ночь наступает, и я то на одной, то на другой начинаю скакать. Да еще как! Темень! Перед собой лошадиных ушей не вижу, а схвачусь за гриву, несусь и несусь. Куда, сам не знаю. Батаа, что я в этом находил хорошего? Видно, молодость… Ветреная, шальная, легкая, как кузнечик, быстрая, как рысь, молодость… Жеребец, помню, был — Ребусом его звали, — так и стелется, так и стелется… Теперь я уж не тот… Потом, знаете, любая кляча подо мной сразу же начинает горячиться, танцевать. Верно в народе говорят: какое сердце у всадника, такое и у лошади… Да… А если чуть-чуть разгорячишься, да при этом сидишь на полудиком стригунке, ну, тогда — сломя голову — играй на людских нервах! У-ух… то на одно стремя, то на другое, то на гриву, то на круп. Вот-вот грянешься оземь… А собаки за тобой… Господи! Ведь так убился двоюродный брат мой Йорго. Мчался и ударился головой о телеграфный столб. Только после этого стал мой пыл убывать.
…Ну, потом война началась. Об этом и вспоминать не хочу — опять сниться будет. Меня на ней сразу определили. Говорят: ты из тайги — будешь снайпером. Память фашистам о себе, думаю, оставил… Вернулся. Грудь вся сверкает, звенит. Э, нет, молодцы, вы не подумайте, что я как Элек, мой шурин, нацепил на себя все от значка железнодорожника — хотя он толком и паровоза-то не видел! — до «Матери-героини». Все свои, все заслуженные. Если бы вы меня тогда видели… У кого глаза болели, на мою грудь близко смотреть не мог.
Вернулся домой. Как же человека с такими наградами заставить делать простую работу. Сказали: давай физруком в школу. О, здорово я учил. «Шагом марш!» Некоторые ребятишки не могли понять, где право, где лево. Всего полгода проработал. Сняли… Конечно, снимут — ефрейтор. Да и то перед демобилизацией присвоили… Что делать теперь? Говорят, иди в милицию. Да мне хоть кем. В милиции интересно.
Читать дальше