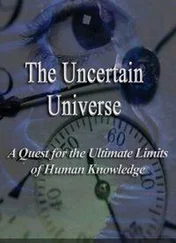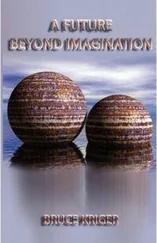Перед самой стиркой Клопушка едва успел унести ноги, словно Ной от потопа, и переселился в Маськин матрац, где он постарался проживать спокойной и, по клоповьим меркам, размеренной жизнью, так никем и не замеченный, лишь изредка покусывая Маськина исключительно для пропитания, а не в целях какой-то садистической насладительности, с которой обычно кусаются, к примеру, комары.
Почему с этими вреднющими насекомыми никак нельзя договориться? Я бы ставил во дворе целый стакан собственной крови для них, но только чтобы они не кусались. Сам бы кровь сдавал по субботам, чтобы организованно скармливать комарам, только без укусов, зуда и расчёсов. Нет, им именно надо попить моей кровушки, обязательно укусив минимум в пяти разных местах, пусть даже если пятый укус будет стоить им жизни.
Помнится, в старой Европе комары были какие-то неуверенные в себе, можно сказать, какие-то нерешительные. Подолгу боялись приблизиться, кружились где-то в сторонке, и лишь потом аккуратненько, пока никто не смотрит, могли укусить, но совершенно деликатно и только один раз.
В Новом Свете комары – совершенные ублюдки. Злые, как голодные бульдоги, налетают они, не раздумывая, то есть просто пикируют стремглав с высоты, и, больно укусив, гибнут под неминуемым хлопком ладони, не принося ни себе пользы, ни нам не давая покоя. Впрочем, и среди людей стал появляться такой тип поведения… Матушка-природа, и куда ты смотришь? Поверни свою залапанную птеродактилями эволюцию вспять… Назад от кровососущих к чему-нибудь более безобидному!
Наш же Клопушка был всё же клопом деликатным, и Маськин, как, впрочем, и никто другой, его не замечал до того самого дня, пока не приключилась одна история.
Как-то Маськин, устав от лечения курицы Фени, прилёг отдохнуть и положил перед собой на тумбочку Фенино золотое яичко – полюбоваться перед сном. Уж очень оно ему нравилось, тем более что яйцо было единственное в своём роде, ввиду пропавшего у Фени дара златояйценосности. Бог дал – Бог взял. Тут уж не поспоришь.
Маськину снились морские свинки, играющие в чехарду, маленькие бегемотики, кушающие мороженки, и опять его любимый жирафик с седлом. Короче – сплошные сны повышенной масечности.
Когда же Маськин проснулся – яйца не было. Представьте себе, как корова языком слизала. Маськин сразу же сбегал спросить корову Пегаску, но та показала ему обложенный язык, как бы доказывая, что язык тут ни при чём. Корова отбрыкивалась, что в дом вообще не ходила, и что у неё и в коровнике дел полно, и что Маськин мешает ей полноценно бездельничать. Маськину пришлось признать, что безделье – тоже дело немаловажное, с чем он и отчалил обратно в спальню.
Тогда Маськин, грешным делом, подумал на барабашку Тыркина, но тот предоставил железное алиби – что, дескать, навещал свой Невроз, который по-прежнему отбывал наказание в местной тюрьме за кражу плоскогубцев в промтоварном магазине. Местное правосудие строго наказывало за подобные проступки, и поэтому Тыркин сам старался воровать только в пределах Маськиного дома. Он не без основания надеялся, что дома его всегда простят и поймут. А вот его Невроз не выдержал, сбежал в промтоварный, и сразу попался на краже плоскогубцев. В суде Тыркин пытался взять вину на себя, но судья был не дурак. Он точно ущучил, что на видеокамере, установленной в промтоварном, был виден именно Невроз домового Тыркина, ворующий плоскогубцы, а не сам домовой. Кроме того, его судейская честь не верила в домовых и не желала прослыть посмешищем во всём их судейском междусобойчике, а вот Невроз был вполне легитимным членом воровского сообщества и подходил под статью о краже посредством Невроза, и мотив у него был налицо – как же Неврозу без плоскогубцев?
Тыркину Маськин поверил бы и без алиби, потому что Тыркин был очень честным, и ему все безоговорочно верили, хоть он и был клептоманом и воришкой. Доверие к человеку не строится на его поступках, а проистекает из ауры его души. Посмотришь на человека и видишь – этому доверять нельзя, а посмотришь на другого – и доверишься без оглядки. Сердце – оно знает, оно подскажет. Вопрос лишь в том, можно ли самому сердцу доверять? Оно всё время бьётся, как в истерике, десятилетие за десятилетием, бедненькое наше встревоженное сердце.
– Если Тыркин говорит, что не брал, значит, не брал, – сказал себе Маськин и сел со вздохом на свою кровать, и вовсе пригорюнившись.
Тут он услышал тихое, но настойчивое кряхтенье под кроватью. Словно бы там, в подкроватной уютной пыли, шёл малюсенький паровозик на всех парах, и вот-вот, казалось, затрубит его гудочек: ду-ду-ду!!! Ту-ту-ту!!! И застучат на стыках рельс его малюсенькие колёсики – тыдых-тыдых, тыдых-тыдых…
Читать дальше