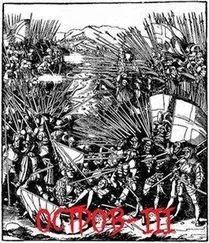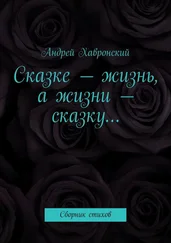«Ведущий конструктор ЦКБ И. Сашин».
Сама собой установилась тишина.
Все поняли, что сделал Игорь Игоревич.
Муромцев очнулся первым.
— Голубчик, дайте я вас расцелую, — всей массой двинулся он на Сашина.
— Как вам не стыдно! — вцепилась Рогнеда в полу его пиджака. — Человек потерял над собой контроль, а вы…
— Я передам этот пакет Шкуро. Лично. Как подобает честному человеку, — негромко и бесповоротно сказал Сашин, оглядывая всех желтыми глазами.
— Милочик. Так вы все испортите, — забеспокоился Муромцев.
— Дайте пакет сюда. И успокойтесь, — протянул руку подошедший Семенов.
Сашин спрятал пакет за спину, но там уже оказался Слава. Завязалась борьба за обладание пакетом. Нападающими руководила Оля:
— Справа! Слева! Спрятал под пиджак…
Регбист в юности Сашин вырвался и кинулся к дверям. Их заслонил Стрижик. С сумасшедшей силой он откинул мальчика и выскочил в коридор.
— Стойте! Слышите!! — крикнул из дверей Лиа-чевский.
Но Сашин бежал уже по коридору.
— К директору… — прохрипел он в приемной, кинувшись к клеенчатым дверям.
— Я же сказала вам — его нет! — заслонила стеганую клеенку отважная Наденька.
Сашин остановился, плохо ее понимая.
— Тогда в партком…
— Андрея Леонидовича вчера еще положили на операцию.
— Ах, да…
На каблуках, с треском, спускался теперь Сашин по лестницам в цоколь. Он ворвался в комнату испытательной станции. Как будто ничего и не произошло, ковырялся там Егупыч у тормоза.
— Брось! — крикнул Сашин. — Вот, почитай, — бросил он на верстак черный пакет.
Егупыч критично посмотрел на Игоря Игоревича, взял пакет.
— Ладно. Чего ты там? Начепушил?
Он положил пакет на инструмент в ящик, замкнул его, все не сводя глаз с Сашина.
— Сядь-ка.
Игорь Игоревич доверчиво сел. Егупыч отер руку концами и положил ее на лоб Сашину. Игорь Игоревич вдруг почувствовал себя тем самым маленьким мальчиком, которым когда-то был; которому вот так когда-то — было ли это, не сон ли — вот так же прислонял свою добрую ладонь ко лбу отец. Он издал нечто вроде мычания, и у него стали криво подергиваться губы. Он плакал с почти сухими красными глазами. Его глаза как бы входили всем, что в нем было, в глаза старика. В них, в эти внимательные глаза, перетекало сейчас горе Сашина, его боль, страдание, крушение надежд, растоптанные разом труд, мечта…
— Постой-ка. Лоб-то горячий. Пошли-ка, милок, домой.
Егупыч окинул халат, вымыл руки по-быстрому, и, надев пижонский пиджак, взял Сашина под руку.
Сашин взял неверное направление в угол, но Егупыч мягко потянул его к дверям.
Темно-синий воздух пахнул сыростью.
Подопревшая дорожка вела к Казаковскому фасаду. В белой балетной красоте стояли запушенные осенним снегом кораллы деревьев. В правильной перспективе, четкий, словно в видоискателе, слепил подсвеченными колоннами желтый особняк.
— Санкт-Петербург какой-то. Умели, — вслух подумал Сашин и в робости остановился у парадного входа. В робости перед временем: бронзодубовая дверь пропускала дам в кринолинах, молодцов в кирасах, сюртуки, фраки, солдатские шинели, буденновских витязей, кожаных танкистов и граждан с портфелями в плащах «Болонья».
Райкомовская красная доска справа, стеклянная, с золотом букв, гармонировала с нарядной архитектурой.
Сашин уважительно глянул на барельеф человека с бакенбардами на серой доске, укрепленной слева от колонн. Начитанный Игорь Игоревич вспомнил этого декабриста. Была экранизирована его жизнь.
— Вы к кому, гражданин? — спросил Сашина корректный милиционер.
— В отдел «Промышленности и транспорта». К товарищу Рожнову.
Милиционер посмотрел список на столе, проверил паспорт.
— Сюда. На антресоли. Комната тридцать восемь.
Сашина закрутило на винтовой лестнице и, наконец, словно из открытого люка, показалась его голова, оглядевшая паркет.
По старой рабочей привычке ему захотелось подтянуться на руках и молодцевато выскочить из люка, ко Сашин «пешком» сделал последний оборот и, как штопор, ввернулся в низкий сводчатый коридор.
По нему прогуливался какой-то представительный мужчина. Сейчас он удалялся от Сашина. Его солидная стать, отлично скроенное пальто, какая-то особенная шляпа с крохотным фатовством, чуть-чуть сдвинутая набок, припущенная в меру серебряная шевелюра говорили о вкусе и породе. Мужчина оставлял позади себя ароматный дымок папиросы.
«Какой-нибудь артист, народный СССР, кумир», — подумал Сашин с чувством где-то скрытой зависти. Впрочем, это не то слово. Зависти не было — ему, Сашину, органически несвойственна была картинная элегантность. Демократ Сашин был хорош, красив по-своему, по-другому… Как бы это сказать… Он мог раскрыться перед умным человеком, который съел с ним пуд соли.
Читать дальше
![Ростислав Соломко Жизнь? Нормальная [сборник] обложка книги](/books/414624/rostislav-solomko-zhizn-normalnaya-sbornik-cover.webp)