И пока он доставал свою записную книжку и вычёркивал из описка возможно бессмертных фамилию Залыгина, машина управляющего тронулась с места и покатила. Сквозь стихающий рокот мотора и шелест шин до Гребешкова донеслось только:
— Заходите в Раймяу! И помните: если что — прямо ко мне!
Глава четвёртая
ПРОЖИТОЧНЫЙ МАКСИМУМ
Баклажанский яростно взбивал мыльную пену в розетке для варенья. По извечной системе взаимозаменяемости агрегатов в холостяцком хозяйстве, бритвенный стаканчик был забит окурками, которые нельзя было совать в пепельницу, ибо последняя уже давно была занята под варенье.
Баклажанский брился. Он недовольно разглядывал в зеркале своё лицо... Маленькое, с близко поставленными глазами, тонкими губами и кривым носиком, с одним ухом, несколько возвышающимся над другим, с острыми усиками, оно было водружено на тонкую шейку, венчавшую утлые, быстро закругляющиеся плечи.
— А ну его к чорту, это зеркало! — рассердился Баклажанский. — Я отражался во многих зеркалах, но в таком...
Это искажающее зеркало досталось ему в наследство от последней домработницы. Домработница ушла в слесари. Уходя, она оставила своё зеркало, так как все её попытки навести перед ним красоту заканчивались тем, что она запудривала себе рот и мазала губной помадой подбородок.
Баклажанский перешёл добриваться к зеркальному шкафу, стоявшему почему-то в прихожей. Теперь из зеркала смотрели широко расставленные на крупном лице светлокарие глаза. Губы стали сочными и полными, нос прямым. И даже уши были на одном уровне.
Этот вариант внешности Баклажанского и следует считать основным.
Скульптор, работая бритвой, как резцом, придавал форму своим только что подстриженным соломенным усам.
Через несколько минут, свежий и сияющий, он уже был полностью готов к ответственному и торжественному моменту — он мог приступить к последним, завершающим доделкам в своей новой скульптурной композиции. Оставались пустяки: кое-где тронуть резцом — и все! Работа, которой суждено сыграть серьёзную роль в жизни Баклажанского, будет, наконец, полностью закончена.
Баклажанский накинул халат и прошёл в мастерскую, где в самом дальнем углу возвышалась укутанная брезентом его гордость и надежда. Он осторожно снял, брезент, отошёл на несколько шагов и замер, заново восхищенный собственным произведением. Это случалось с ним теперь каждое утро.
Перед ним на одном постаменте в разных позах стояли три одинаковых, могучих, бородатых шахтёра.
Это был триптих, поэма в мраморе, повесть в трёх частях о механизации угледобычи.
Баклажанский смотрел на своих каменных бородачей с отеческой нежностью и волнением. Оно и понятно — ведь скульптура предназначалась для отчётной выставки, к которой Баклажанский готовился с плохо скрываемой надеждой на премию.
Впрочем, он был уверен в успехе и сейчас мысленно уже рисовал себе картины своего будущего триумфа. Залогом этого триумфа было не только его признанное мастерство, но и великолепная тема, некогда уже принёсшая ему признание и славу.
Первым своим творческим успехом в жизни он был обязан небольшой фигуре молодого шахтера-ударника, которую он вылепил ещё в конце второй пятилетки. Окончив высшее художественное училище, он уехал в Донбасс. Через долгие и трудные полгода он привёз оттуда дипломную работу — маленькую статую, которой суждено было положить начало его известности.
Он работал над ней... Но в конце концов никому нет дела до того, сколько бессонных ночей он просидел над ней, сколько злых слез было пролито над неудачными вариантами. Этими слезами все равно не покупается снисхождение. Это лишь законные издержки художника.
Ясно было одно: сколько бы раз он ни говорил себе «с этим кончено», но на один раз больше он сказал «начнём сначала». И когда глазам зрителей ученической выставки предстал всклокоченный после трудной работы, но улыбающийся, как бы радующийся своему успеху молодой ударник-забойщик, все были покорены.
Рядовые зрители ходили вокруг и вслух пытались вспомнить, где они видели этого парня. Это было лучшей похвалой художнику.
Юный скульптор обнаружил золотое качество художника — острое чувство нового и в самом выборе темы и в характеристике образа рабочего тридцатых годов. Это пленило всех.
В первых же заметках о выставке, где корреспонденты ещё безбожно путали фамилию начинающего скульптора, Федор Павлович был объявлен способным. Через неделю он именовался талантливым. Через две недели — передовым. К концу месяца — ведущим.
Читать дальше
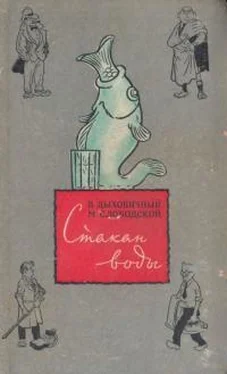




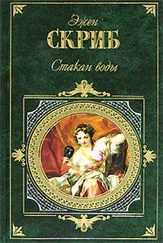




![А Слободской - Среди эмиграции [Мои воспоминания. Киев-Константинополь, 1918-1920]](/books/427135/a-slobodskoj-sredi-emigracii-moi-vospominaniya-kiev-konstantinopol-1918-1920-thumb.webp)
