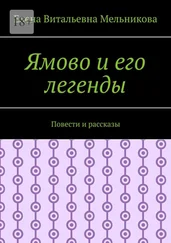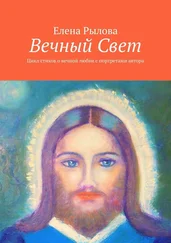Истории Бенци компактны, как Израиль, а мои пространны, как СССР.
Дом пишет
Представь себе, Бенци, пятиэтажку на окраине Москвы, на пересечении двух магистралей – Окружной дороги и Ленинградского шоссе. Типовые застройки хрущевских времен, коротко – хрущебы. С пятиметровыми кухнями и смежными комнатами, поделенными дверью в произвольном месте, узкий коридор, крошечные ванные и уборные. В таком доме я прожила двадцать шесть лет. Рядом с каналом, который строили зеки, рядом с магазинами, винным и продуктовым. Винный закрылся при Андропове. Каждый год помещение ремонтируют – в нем не осталось ничего, кроме кафельных стен и каких-то прилавков – то ли их собирают, то ли разбирают. Такая же загадка – с полем между двумя магистралями. Середину поля обнесли забором, законопатили со всех сторон. Вскоре над этим стратегическим объектом вознесся холм чернозема, на следующий год верхушка холма поросла скрюченными тонкими ивами, как на остовах разрушенных церквей, затем на холме воцарилась черная поджарая сука. Она лаяла на прохожих, идущих с автобусной остановки домой, теперь уже кружным, мимо забора, путем. А у холма появился сторож, пенсионер из соседнего дома, тот самый, что расстреливал финок-коминтерновок в подвале Лубянки и рисовал портреты Сталина летом, во дворе, на открытом воздухе, потому что у его жены была аллергия на краски.
Что же там будет, что же ты сторожишь, расспрашивали нашего героя соседи-пенсионеры, но эту тайну он или поклялся не раскрывать, или не знал – ему это надо? Блатная работенка, сука лает на прохожих, а он спит себе или забивает козла с друганами.
Итак, жрать нечего, выпить нечего, лампочки кончаются, а сигареты просто-напросто исчезли. Тоска собачья. С этой-то тоски и развелось страшное поветрие – писательство. Дом начал писать. Кто во что горазд. Кто стихи, кто рассказы, кто памфлеты, кто куплеты, кто рацпредложения, кто жалобы, кто письма в организации. В России писателей больше, чем читателей, а когда такая тоска, что ни выпить, ни закусить, писатели плодятся, как опята, гроздями.
Началось с первого этажа, перенеслось на второй, охватило сразу три квартиры из четырех, затем на третий, там двое из противоположенных квартир занедужили прозой, пламя творчества охватило средний подъезд и распространилось на остальные.
Где пишут, там и читают, иначе зачем писать? Прочтешь одним, послушаешь у других. Безобидное это дело оказалось не безобидным. Из-за известной напасти – всякий факт исказить до неузнаваемости. Крупными событиями в ту пору разве что газеты были брюхаты, так что писательство носило характер местный.
* * *
Сосед с первого этажа вернулся из армии не в себе. Сам не свой, что ли. Сначала, когда еще было что выпить, он пил, а потом, когда занялась перестройка и все стало можно говорить, в газетах и толстых журналах замелькали статьи о нашей армии, сосед решил написать, что там над ним вытворяли. Статью он показал соседу с третьего этажа, журналисту. Тот одобрил. Поощрил на новые подвиги. Но тот про армию больше не хотел, лучше про любовь. Писал про любовь и носил соседу-журналисту на экспертизу. Меж тем женился. И сосед-журналист влюбился в его жену. Она в него. Они любили ее, она их. Оба писали. Журналист стихи:
Дом спит. Она магнит. Меня знобит. Чурбан-сосед. Ее берет. Меня тошнит.
Сосед с первого этажа – прозу: «Он шел по улице и курил взатяжку. Он знал, что она где-то там, на третьем этаже, что он своими мерзкими стихами, своими лживыми статьями про перестройку оплетает ее, наивную девочку, как паук муху».
Произведения при себе держать трудней, чем чувства. Соседи обменялись текстами. Не будь андроповского антиалкогольного закона, они, даже если бы подрались, выпили бы и помирились, а тут они подрались и не помирились. Девушка бросила обоих и ушла домой к родителям.
* * *
Мы же друг другу не самиздат читаем, за который нас бы раньше власти взгрели, а сейчас даже поощряют, у нас смута в умах пошла с этой гласностью. Мы теперь ничего не прячем в корзине рядом с унитазом, чтобы в случае чего на мелкие клочки и смыть, мы теперь полноценными личностями стали, по всем вопросам можем и должны открыто высказываться, и из этого снова выходит скандал.
Кто-то, потом будет известно, кто именно, задел в поэме за больное место дочь соседки-парикмахерши с четвертого этажа, заметив, что она «прекрасная душой, с распущенной косой, от остановки шла, когда весна цвела. Вернулась дочь домой, отец ей дал ремня. – За что он бьет меня?! – Не шастай среди дня!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
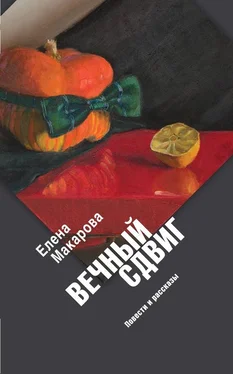

![Елена Коронатова - Бабье лето [повесть и рассказы]](/books/192117/elena-koronatova-babe-leto-povest-i-rasskazy-thumb.webp)