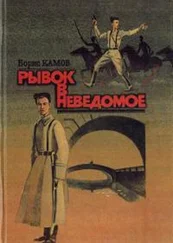Александр Окунь - Камов и Каминка
Здесь есть возможность читать онлайн «Александр Окунь - Камов и Каминка» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2015, Издательство: Звезда, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Камов и Каминка
- Автор:
- Издательство:Звезда
- Жанр:
- Год:2015
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Камов и Каминка: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Камов и Каминка»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Камов и Каминка — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Камов и Каминка», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
С шумом ввалились они в дом.
— Нина, Нина! У нас гости!
Немолодая худощавая женщина, сидевшая за столом, удивленно взглянула на художника Каминку, перевела взгляд на гостя и, неожиданно залившись краской, встала и протянула ему руку.
Художник Камов медленно стянул ушанку с головы и приложился к руке.
— Не обращай внимания, — счастливо рассмеялся художник Каминка, — он ведь из России! Вот лыжи поставим сюда, придержи, Нина, и ватник снимай, у нас, слава богу, не холодно. А вот и мама. Мама, ты Мишу помнишь? Это Миша! — прокричал он в ухо сморщенной, крохотной старухе с редкими прядями пожелтевших волос.
— Вижу, вижу, — пробормотала старуха. — Как?
— Миша! Миша Камов!
— Моше… — Старуха неуверенно улыбнулась склонившемуся к ней художнику Камову.
— Очень, очень радостно видеть вас, — заклекотал он, — я ведь вас хорошо помню, и дом ваш на Пушкинской…
— Нина! — суетился художник Каминка. — Нина! Накроем в садике? Ты, Миша… ох, как же я забыл! Ты ведь вегетарианец, а у нас, кроме зеленого салата, помидоров и картошки, ничего, кажись, такого нету, даже огурцов…
— Увы, Сашок, — скорбно приподнял брови художник Камов, — прошло. Ем теперь всё и братьев наших меньших поглощаю бестрепетно.
— Вот и чудно, — обрадовался художник Каминка, — значит, ала эш, по-нашему — мангал!
Долго сидели они под серебристым облачком большой оливы. Тридцать лет — большой срок, и не всяким людям, как бы близки они ни были раньше, удается перекинуть через него зыбкий, непрочный мост, дабы призраки когда-то пылких чувств, душевных привязанностей, совместных устремлений, перебравшись по нему из скрытого сгустившейся тьмой времени прошлого на здешний, сегодняшний берег, вновь смогли вочеловечиться и прорасти в постаревшей на тридцать лет душе. Но нежной голубизной светящиеся, ласковые, погрустневшие за эти годы глаза и это такое знакомое, такое любимое курлыканье стерли, а может, правильнее сказать, на какое-то время отодвинули в сторону прожитые порознь непростые, трудные годы, и радостный смех, неожиданная распахнутость и веселость художника Каминки были чудесным сюрпризом для искоса удивленно поглядывающей на него Нины, настолько этот живой, с легкими мальчишескими ухватками человек не походил на обычно озабоченного, молчаливого, погруженного в свои печальные мысли художника Каминку.
До позднего вечера просидели они во дворике. Росший за оградой старый кипарис разрезал косой тенью двор надвое, а, когда солнце покатилось за Иудейские горы вниз к Аялонской долине, к запаху дыма и жареного мяса примешался аромат растущих вдоль забора лавров, тимьяна, розмарина и еще каких-то никому, кроме ботаников, неведомых представителей иерусалимской флоры.
Явление друга из прошлой жизни произвело на художника Каминку удивительный эффект, словно сухие, давно отшелушившиеся с поверхности его души клетки внезапно регенерировали, и прошлое всем огромным, не поддающимся исчислению весом обрушилось на него, заставляя вновь испытывать чувства, нынешнему художнику Каминке неведомые. Возможно, именно из-за душевной сумятицы он не сразу заметил, что гостю большого труда стоит сидеть на стуле. Черты лица художника Камова заострились, складки стали глубже, глаза провалились внутрь.
— Господи, — всплеснул руками художник Каминка, — да ты сейчас рухнешь! Я ведь тебе и вымыться с дороги не предложил! Нина! Нина! Готовь ему постель!
Бережно поддерживая друга, он отвел его в гостевую комнату, усадил в кресло, расшнуровал и стянул с ног тяжелые лыжные ботинки и толстые шерстяные носки. Художник Камов с видимым облегчением вздохнул и пошевелил желтыми пальцами. Ноги его отекли, и кости голеностопного сустава были покрыты бесформенной массой одутловатой, прошитой синей капиллярной сеткой и испещренной подсохшими коричневыми корочками мелких язвочек плоти. Раздутые сардельки пальцев выдавливали из себя покоробленные глазки ногтей.
— Вот тебе халат, Мишенька, тапочки, зубная щетка. Пижама на кровати. Помочь тебе помыться?
— Нет, Сашок, — с достоинством, хоть и несколько смущенно ответил художник Камов, — пощади мою стыдливость. Я сам.
ГЛАВА 8
посвященная спутнице жизни художника Каминки
На этом месте мы прервемся, ибо ощущаем известное неудобство, вызванное появлением на сцене нового персонажа, а именно гражданской (ибо формального брака они не заключали) жены художника Каминки. С одной стороны, существенного отношения к развитию истории, нами излагаемой, она не имеет, и рассказ о ней имеет все шансы стать не иначе как композиционным ляпсусом, ненужной, отвлекающей внимание деталью, излишеством, мешающим стройной архитектонике романа. С другой — как-то неудобно, неловко, неприлично даже: ну как это, взять и оставить безо всякого внимания жену, существо близкое и дорогое нашему герою? Поступить так, не значит ли это не только отнестись к этой женщине с совершенно незаслуженным ею пренебрежением, но и в какой-то степени обмануть естественные ожидания читателя: уж коли есть у художника Каминки жена, пусть и гражданская, то он, читатель, вправе хоть как-то познакомиться с ней поближе, не так ли? А если причиной ее появления на этих страницах служит необходимость подать обед, то мы с полной ответственностью заявляем, что причина эта отнюдь не является уважительной и не оправдывает появления какого угодно персонажа, хотя бы и жены. В этом случае автор вполне мог бы без нее обойтись, отправив наших героев в ресторан или же заставив художника Каминку сделать шакшуку — местную яичницу в остром томатном соусе, что он, кстати говоря, умел делать совсем недурно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Камов и Каминка»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Камов и Каминка» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Камов и Каминка» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.