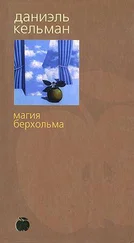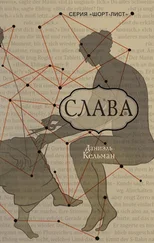— А почему машина еще здесь?
— Она поехала на поезде.
Я испытующе посмотрел ей в глаза:
— Я за сумкой, забыл ее у вас.
Она кивнула, повернулась и пошла в дом, оставив дверь открытой. Я проскользнул за ней следом.
— Звонила моя сестра, — сказала она.
— Вот как!
— У нее неприятности.
— Если вам нужно уйти, я могу за ним присмотреть. Несколько секунд она нахально глядела мне в глаза.
— Как любезно с вашей стороны. — Она поправила на себе рабочий халат, наклонилась и подняла с пола туго набитую дорожную сумку. Прошла к двери, замешкалась и вопросительно посмотрела на меня.
— Не беспокойтесь! — тихо сказал я.
Она кивнула. Шумно вздохнула, потом закрыла за собой дверь. Через кухонное окно я смотрел, как она мелкими шажками, неуклюже идет по автостоянке. Сумка болталась у нее в руке.
 постоял в передней и прислушался. Слева входная дверь, справа столовая, передо мной лестница на второй этаж. Я откашлялся, мой голос странным эхом раздавался в тишине.
постоял в передней и прислушался. Слева входная дверь, справа столовая, передо мной лестница на второй этаж. Я откашлялся, мой голос странным эхом раздавался в тишине.
Прошел в столовую. Окна там были закрыты, явно давно не проветривали. О стекло билась муха. Осторожно выдвинул верхний ящик комода: аккуратно сложенные скатерти. Следующий: ножи, вилки, ложки. И нижний: «Лайф», «Тайм» и «Пари-матч» двадцатилетней давности, вперемешку. Старое дерево не поддавалось, я с трудом задвинул ящик назад. Вернулся в переднюю.
Слева от меня виднелись четыре двери. Распахнул первую: маленькая комнатка, постель, стол и стул, телевизор, изображение Мадонны на стене, фотография молодого Марлона Брандо. Наверное, это комната Анны. Следующая дверь вела в кухню, потом комната, в которой меня принимали вчера. За четвертой куда-то вниз вели ступени.
Я поднял с пола сумку и ощупью нашел выключатель. Всего одна электрическая лампочка бросала грязноватый свет на поскрипывавшие деревянные ступени, лестница была такая крутая, что приходилось держаться за перила. Я повернул выключатель, со щелчком зажглись прожекторы, я зажмурился. Привыкнув к яркому свету, я понял, что оказался в мастерской художника.
Помещение без окон, освещенное только четырьмя прожекторами: тому, кто здесь работал, не требовался дневной свет. Посреди комнаты стоял мольберт с незаконченной картиной, на полу валялись с десяток кистей. Я нагнулся и потрогал их, все они были сухие. Рядом лежала палитра, краски на ней окаменели и покрылись сетью трещин. Я принюхался: пахло так, как обычно пахнет в подвалах, — немного сыростью, чуть-чуть нафталином, но уж никак не красками и скипидаром. Здесь давным-давно никто не работал.
Холст на мольберте был почти нетронут, его белое поле пересекали всего три мазка. Они расходились веером из левого угла, вверху справа виднелось маленькое, заштрихованное мелом поле. Никаких набросков, ничего, что позволило бы догадаться о замысле художника. Чуть отойдя от мольберта, я заметил, что у меня четыре тени, перекрещивающиеся под ногами, — по одной от каждого прожектора. К стене были прислонены несколько больших холстов, закрытых полотнищами парусины.
Я откинул первое и вздрогнул. Глаза, искривленный рот: чье-то лицо, странно искаженное, точно отражение в текущей воде [15]. Оно было выдержано в светлых тонах, от него, словно языки затухающего пламени, разбегались красные линии, глаза рассматривали меня холодно, испытующе. И хотя это был, несомненно, его стиль — легкое наложение краски, излюбленная красно-желтая палитра, о которой писали и Коменев, и Меринг, — картина была не похожа на все остальные, что мне приходилось видеть. Я поискал его подпись и не нашел. Потянулся за следующим полотнищем; стоило мне к нему прикоснуться, как над ним вздулось облачко пыли.
То же лицо, на сей раз чуть поменьше, — четко очерченный круг, с притаившейся в уголках рта насмешливой улыбкой. И на следующем холсте снова оно, теперь уже с неестественно растянутым ртом, высоко поднятые брови сходились над переносицей, лоб избороздили морщины, придававшие лицу сходство с маской, встопорщились жидкие волосы, похожие на царапины на бумаге. Ни шеи, ни туловища, одна голова, парящая в пустоте. Я снимал полотнище за полотнищем, лицо искажалось все сильнее: подбородок гротескно удлинялся, краски становились кричащими, лоб и уши вытягивались. Но глаза, казалось, смотрели на меня с каждого нового портрета все отчужденнее, все безучастнее и — я сдернул еще одно полотнище — все презрительнее. Теперь это лицо разбухло, как в кривом зеркале, его уже украшал нос Арлекина и извилистые морщины на лбу, на следующем холсте — брезент за что-то зацепился, я изо всех сил дернул, поднялось облако пыли, я невольно чихнул — оно смялось, как будто кукловод сжал кулак внутри перчаточной куклы. На следующем холсте оно едва виднелось, словно сквозь метель. Другие незаконченные картины остались всего лишь предварительными набросками с отдельными красочными плоскостями, кое-где можно было различить то лоб, то щеку. В углу, как ненужный хлам, валялся блокнот для эскизов. Я поднял его, смахнул пыль и открыл. То же лицо, изображенное сверху, снизу, со всех сторон, а однажды даже показанное изнутри, как маска. Рисунки, выполненные угольным карандашом, с каждым листом становились все более беспомощными, штрихи, дрожащие и неуверенные, оставляли все усиливающееся впечатление хаоса, пока наконец на одном из листов не слились в сплошное черное пятно. С него посыпалась угольная пыль. Последние листки в блокноте были пусты.
Читать дальше
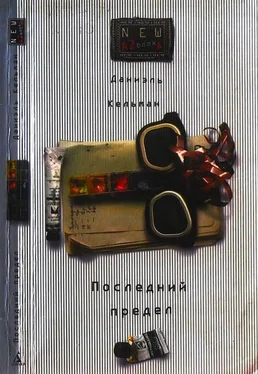
 постоял в передней и прислушался. Слева входная дверь, справа столовая, передо мной лестница на второй этаж. Я откашлялся, мой голос странным эхом раздавался в тишине.
постоял в передней и прислушался. Слева входная дверь, справа столовая, передо мной лестница на второй этаж. Я откашлялся, мой голос странным эхом раздавался в тишине.