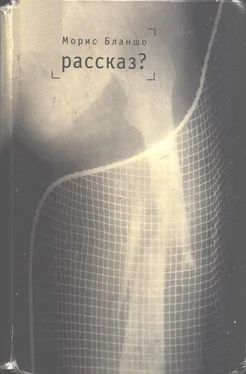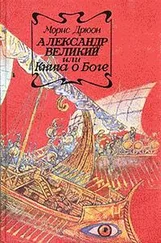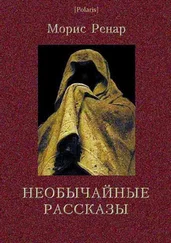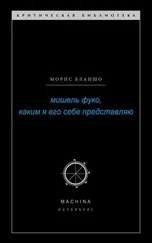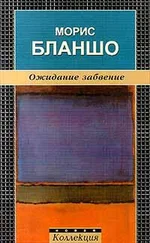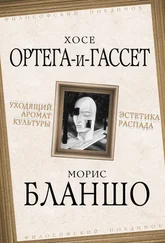Чистое ожидание — общение с будущим, которое никогда не станет настоящим; ожидающее, забывающее об ожидаемом, — почти как “В ожидании Годо”.
“Когда я говорю: ‘эта женщина’, в моем языке провозглашается и уже присутствует реальная смерть; мой язык подразумевает, что эта персона, каковая — вот тут и сейчас, может отделиться от самой себя, может быть избавлена от своего существования и присутствия и внезапно погружена в небытие без существования и присутствия; мой язык по сути означает возможность этого разрушения, он в каждый миг решительно намекает на подобное событие. Мой язык никого не убивает. Но если бы эта женщина не была в действительности способна умереть, если бы се жизни ежесекундно не угрожала смерть, с которой она повязана и соединена некой сущностной связью, я не смог бы свершить то идеальное отрицание, то отсроченное убийство, каковым является мой язык” (“Литература и право на смерть”, в: М. Blanchot, La part du leu, Gallimard, 1949, p. 313).
Где, в частности, Бланшо называет свои новеллы рассказами (recits), что и послужило дополнительным формальным основанием для их включения в настоящий сборник.
Это указание на кольцевую сцепленность рассказа — следование его за собственным уничтожением — перекликается с “топологическими” трактовками прозы Бланшо Жаком Деррида (см. об этом ниже).
Подробнее об этой фразе см. в комментариях в книге: Ж. Деррида. Золы угасшъй прах, СПб., Академический проект, 2002, стр. 72–74; сам Бланшо обсуждает се в “Кромешном письме” (Ј 'Ecrilure du desastre, op. cit., pp. 169–170).
Среди многих (весьма субъективных) наблюдений Бидана за деталями этого текста (он, к примеру, вычитывает из имен персонажей “Идиллии” имена русских царей) интересно его наблюдение, что Сиротко практически является анаграммой имени Троцкий. Попутно отметим, что Бланшо в 30-е годы был ярым антисталинистом.
Как указал Деррида в “Прибрежиях”, слово récit обладает ко всему прочему значимыми графической — dcrit (писание) — и фонетической scric (ряд) — перестановками.
“Надо признать, что предопределенной скромности, желания ни на что не претендовать и ни к чему не подводить хватало, чтобы сделать из многих романов безупречные книги, а из романного жанра — наиболее симпатичный из жанров, который ставит себе в качестве задания посредством сдержанности и жизнерадостной никчемности забыть то, что другие унижают, величая его существенным. Развлечение — его глубинное пенис. Беспрестанно менять направление, идти будто бы случайно и избегая всякой цели, в беспокойном движении, которое преобразуется в счастливую рассеянность. — таково было его первое и наиболее надежное оправдание. Сделать из человеческого времени игру, а из игры свободное занятие, освобожденное от всякого непосредственного интереса и способное поверхностным этим движением вобрать в себя тем не менее вес бытие, это не так уж мало" (“Пенис Сирен”, op. cit., стр. 9).
В переводе И. Стаф опубликован под названием “При смерти” в журнале “Иностранная литература” № 10 за 1993 год.
P. Madaule. Veronique et les chastes. Ulysse-Fin de siecle, 1988. p. 119.
G. Mehlman. Genealogies ot the text, Cambridge University Press, Cambridge. 1995, pp. 82–96.
Вообще, при издании прозы Бланшо (как и в критике) в использовании жанровых помет наблюдается некоторый разнобой.
Отголосок этой коллизии, возможно, появляется в “Ожидании, забвении”, где “Мертвые воскрешали умирающих”.
Безусловно, фоном повествования служит теория смерти, развитая Хайдеггером в “Бытии и Времени” (см. Sein und Zeil, ijtj 45–53).
Приводим этот отрывок: “Я говорю: цветок! и вот из глубин забвения, куда звук моего голоса отсылает силуэты любых конкретных цветков, начинает вырастать нечто иное, чем известные мне цветочные чашечки: словно в музыке, возникает сама чарующая идея цветка, которой не найти ни в одном реальном букете” (цит. по: Поэзия французского символизма, МГУ, 1993, стр. 424, пер. Г. Косикова).
М. Holland. "Rencontre piegee: ‘Nadja' dans L Arret de mort", in Violence, tlieorie. surrealisme, 1994, pp. 117–138.
Русский перевод: Комментарии, №№ 5. 7 (1995).
Которое все же обязано сбываться, то есть приходить.
Из других библейских аллюзий можно упомянуть ещё парафразу Матф. 10:39: "Сберегающий душу свою потеряет её, а потерявший душу свою ради меня сбережет её" в сцене в тёмной комнате и, особенно, слова arrét de mort во французском переводе 2-ого послания Коринфянам: "Но сами в себе имели приговор к смерти…" (2 Кор. 1:9). Отдельного внимания в этой связке заслуживает также параллель между платом святой Вероники и муляжом рук и лица Натали (подробнее см. об этом у Пьера Мадоля, op. cit.). Целый ряд непосредственных библейских отсылок присутствует и в "Тёмном Фоме".
Читать дальше