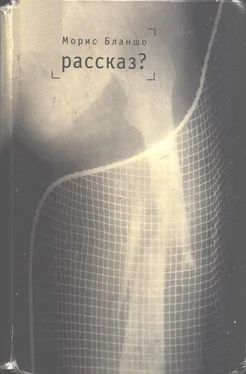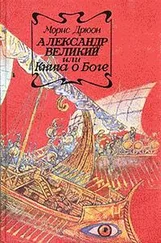Я вслушался в эти слова. В них присутствовало нечто необычайно привлекательное, они были внятны, точны: в пределах моей досягаемости, и все же казалось, что они обо мне не ведали, как не ведал о них и я. Тут крылось какое-то новое явление, и я сказал себе, что в будущем надо будет в нем разобраться, но в данный момент все это было столь легким, столь несерьезным и в то же время обладало таким размахом, что я не мог и подумать о том, чтобы с ним освоиться. Может статься, я ничего не понимал, может статься, называл речью то, что обходилось без речи, но здесь то, что обходилось без речи, оборачивалось уже речью, то, что не было понято, оказывалось выражено. Мне нужно было бы идти дальше, но я заметил, что меня сковывает печаль, все это было так пусто; оно говорило от имени столь исчерпанной, столь цепкой дали, было связано с такой мукой, с такой неприметной мукой. Здесь ли все это было?
Ответа я не ждал, но он пришел — не что иное, как откровение об опасности, в которой я находился. Будто слово “здесь” влекло меня прочь или же из-за собственного непостоянства я сам потихоньку подталкивал его перед собой, я вновь прошел поверх его слов или же вновь обрел в них как здоровое, еще зримое ядро свои собственные, обнаружил ту фразу, которую мне давно надлежало сказать, но тут же ощутил ничтожную, пугающе истонченную связь, соединявшую меня с нею, ее странный, безличный характер, ничтожную долю, из-за которой я мог назвать ее своей и, следовательно, ее произнести: не складывалось ли у меня, когда я говорил, впечатление, что из дальней дали я уже был этой речи свидетелем? не появлялось ли чувство, что она уже давно мне предшествует, и уж не неким ли непредвиденным движением, непредвиденным отступлением я нашел в себе силы, с ней встретившись, ее не упустить? Да, у меня были на то силы — помешать ей быть сказанной вместо меня кем-то или никем, но если я чувствовал, что в связи с этим отступлением могу снова ее произнести, не в меньшей степени чувствовал я и то, что — тем не менее и как бы там ни было — она уже произносилась в одиночку.
Мне сразу стало ясно, что на этом месте и надлежит остановиться. Возможно, это откровение не научило меня ничему, чего бы я уже не знал. Возможно, указав на единственную точку, в которой я цеплялся за нечто истинное, оно только крепче стянуло вокруг меня тревогу пустоты, словно я, поскольку только в этих словах еще и оставался, почувствовал, как они распадаются, разрушая последнее обиталище, из которого я мог остановить блуждания. Теперь я хорошо понимал, мне казалось, что я понимал, почему должен был там оставаться. Но где я — здесь — был? Почему рядом с ним? Почему позади всего, что я говорил, а он отвечал, маячили эти слова: “Там, где мы, все сокрывается, не так ли?”, слова, которые я понимал, которых не понимал, они обходились без понимания. Все было необычайно спокойно, но он оставался под стать этому спокойствию, и безмолвие, сколь бы глубоким оно ни было, пребывало, однако, менее безмолвным, чем он, постоянно казалось преследуемым, перечеркиваемым; я только и мог сказать себе: ну вот, с безмолвием покончено. С подобным ощущением мне в себя было не прийти.
Пришел в себя я чуть дальше. Судя по всему, я оказался ближе к середине комнаты, поскольку она предстала передо мной в новом свете: будучи довольно низкой, не столько широкой, сколько длинной, она, однако, была весьма просторной. Я не мог уловить, что же мешает мне ее описать, надежно сдержать ее в описании. Проблема крылась не в воспоминании; а может, и действительно меня там не было; может, я не был там в действительности, как он мне и внушал? Я не отказывался в это поверить, но моей вере тоже недоставало действительности, так что я действительно в это не верил. Думал же я, что это связано с моими с ним отношениями, с одиночеством того “мы”, в котором мне надлежало оставаться, постоянно его отстраняя, чтобы в этом промежутке он мог себя выразить, а я его понять, где мне надлежало оставаться, но не отступая: опасно подставлять себя той удушающей стихии, которая, когда себя проявляла, мешала мне здесь скрыться, вынуждала блуждать или меня рассеивала, оставляя восприимчивым к могуществу скрытности; и если я не понимал эту мысль, то все же на нее опирался, она некоторым образом и была самим этим местом, и именно оттуда я и видел комнату, в которой тем не менее находился. Выглянув через просторные окна — все в этот момент было необычайно спокойно — и наблюдая за тем, как кружит вокруг занавеса зеленых листьев странный мечтательный день, светлее которого я не мог себе и представить — но свет этот был не вполне светом, он его напоминал, радовался, что, прорвавшись из глубин, затерялся, легко скользя по поверхности, — я не мог удержаться от воспоминания: за стеклом кто-то был; не успел я его вспомнить, как он повернулся к стеклу и, не задерживаясь на мне, быстро окинул пристальным и поспешным взглядом всю протяженность, всю глубину комнаты. Само видение почти сразу же поблекло, но не изгладилось впечатление, жуткое ощущение возврата все в ту же бесплодную точку, к тому же неутомимому мгновению, словно меня возвращали туда все пути, все слова в какой-то момент проходили через это присутствие, чья напряженность, чья жизненная сила воскрешали в памяти лишь нечистоту самого этого момента, мое желание найти, на что еще взглянуть, на чем остановиться и там передохнуть. Это чувство было столь сильным, до такой степени препятствовало мне мною же и воспользоваться, что, когда я услышал шепот: “Кто-то разглядывает нас в окно. — В окно?”, это оказалось как бы своего рода избавлением, меня пронзило нечто вроде счастья — и не только потому, что я уступил неотвратимому, просто в тот миг остававшееся в слове “окно” непроницаемым обрело прозрачность, и в свете этой прозрачности меня озарило: приближался момент, когда он уже не будет понимать мои слова. Предчувствие, которому я не смог следовать до самого конца, мне не хватило сил, не хватило самого себя.
Читать дальше