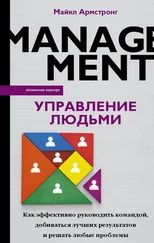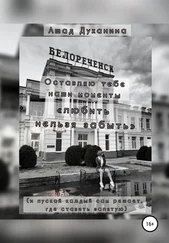— А рот у него есть? — спросил отец.
— Есть, конечно, — подала голос мать.
— Тогда я хочу, наконец, услышать, на что этот рот способен. Рамина, ну-ка шлепни его!
— Да шлепала уже, сударь мой, только не хочет он плакать.
— Что ж он тогда делает? Да повернись ты наконец.
Рамина повиновалась и подняла меня так, чтобы всем было видно.
— Он улыбается, сударь. Он все время улыбается мне.
Я огляделся и впервые увидел человека, который не был моим отцом, потом деда и всех остальных, с любопытством обступивших меня. Сзади раздался голос матери, лежавшей на подушках и одеялах, она просила, чтобы ей дали сына. То, что случилось дальше, по словам Рамины, повергло людей в такое волнение, что об этом пошла молва, писали темешварские газеты, а врачи перепечатывали в медицинских журналах.
Я засмеялся, да так громко, что все отпрянули на несколько шагов. У женщин заколыхались юбки, в гостиной полопались стаканы, по всему кварталу останавливались пешеходы, а все собаки вдруг разом залаяли, будто почуяв беду. Я смеялся над своей жизнью, как потом объяснила мне Рамина. Священник побледнел, словно увидел черта, перекрестился и поспешил откланяться.
Для дальнейших событий у Рамины имелось сразу несколько вариантов. Чаще всего она рассказывала тот, в котором отец схватил меня и стал трясти, но я не унимался. «Ты не смеешь издеваться надо мной, слышишь?! Никто не смеет издеваться надо мной!» — якобы орал он. Потом он будто бы схватил пальто, сел в машину и поехал в сторону Трибсветтера. «Ты был сильнее его, Якоб. Помни об этом», — каждый раз повторяла Рамина.
Лишь с большим трудом Рамине и деду удалось удержать мать, которая хотела сесть в коляску и поехать за отцом, чтобы умилостивить его. Именно этим она и занималась все последующие годы. Она делала это так же истово, как и молилась. Ведь, как известно, первое, что она сделала, приехав в Трибсветтер через несколько дней, — это распростерлась перед распятием, висевшим в спальне испокон веку. Перед тем самым, которое она взяла в бомбоубежище во время боев за город, ибо, когда мать отправлялась в путь, распятие всегда ехало с ней.
Она лежала, распластавшись на полу и прижимаясь ухом к доскам, словно ответ, которого она ждала, должен был последовать из недр земли, а не свыше. Иногда она шептала: «Отец Небесный, сделай так, чтобы мой муж полюбил меня и принял своего сына». После молитвы она брала распятие в руки и целовала его.
Рамина положила меня в колыбель, сработанную отцом Катицы, плотником, и подвешенную к потолку посреди комнаты. Она запеленала меня с головы до ног (в скором времени ей предстояло сделать это и со своим собственным сыном). Поверх пеленок она обвязала меня бечевкой, так что я не мог пошевелиться. Я стал похож на новорожденную мумию и большую часть времени был занят тем, что рассматривал потолок и прислушивался к тихому всхлипыванью матери.
В тот день, когда с запозданием началась война, и перед тем как я покинул жилище Рамины, она несколько раз так сильно прижала меня к своей колыхающейся груди, что я едва не задохнулся. «Я жду тебя на следующей неделе, Якоб!» — крикнула она мне вслед.
Перед домом скакала почти дюжина обезглавленных кур. Их головы лежали кучкой у босых ног Сарело, кровь впитывалась в землю, прямо как моя моча. Сарело высоко поднял последнюю курицу, крепко держа ее за голову. Птица беспомощно болталась, и ее тонкое тело маятником отмеряло последние мгновения жизни. Молниеносным, отработанным ударом Сарело обезглавил ее. Нож оставил на курином горле ровный срез, и тело ее упало на землю, заметавшись в посмертных судорогах. Двенадцать белых безголовых птиц бегали по двору Рамины, словно пытаясь в последний раз воспротивиться смерти. Затем все они попадали одна за другой.
— Мои ножи так хороши, что разрежут даже ветер, — тихо сказал Сарело.
Когда я пошел прочь, он, все еще занимаясь ножами, крикнул мне вслед:
— Не верь ни единому слову моей матери! Ты родился всего лишь на навозной куче!
Когда я добрался до границы деревни, уже наступил вечер и звонили колокола. Война началась и для нас.
* * *
Своим именем я обязан дедушке. Он всегда утверждал, что это была ошибка француза Туттенуйя — сельского писаря, записавшего мое имя с буквой «с», а не «k» . Но рассказывали и другую историю.
Якобы вскоре после моего рождения в деревню приехал в коляске какой-то человек и остановился прямо у нашего двора. Он громко постучал в ворота, и дед открыл ему. Отец уехал с новым управляющим-румыном, хотел осмотреть земельный участок, на котором собирался построить мельницу. Он тогда уже успел скупить у крестьян из соседних сел — поскольку трибсветтерцы ему ничего не продавали — столько земли, как будто боялся, что она скоро кончится и ему не хватит.
Читать дальше