Сам того не замечая, он снова и снова перематывал тот же ролик, за каждым разом теряя несколько слов. Ему помнилось, что он замечал у своего зятя еще до свадьбы некоторые недостатки в характере, и он сейчас злился, что не может припомнить своих нареканий. От усиленной работы памяти на лбу выступили капли пота, а сердце тревожно сжималось при взгляде на молодого человека. Само имя Пьера Ленуара расплывалось в его отяжелевшей голове. Он чувствовал, как между ними утончается нить понимания, вот-вот она совсем порвется. Вдруг в голове раздался щелчок, и Пьер Ленуар как бы стал непроницаемым для его взгляда и ума. Этот переход от материального к нематериальному оставил ему только ненужную, застывшую форму. Успев все же почувствовать, что из его мира исчез зять, мсье Ласкен ощутил боль, поскольку был человеком, привычным к порядку, с обостренным чувством непрерывности. Он провел рукой по лбу, пытаясь прогнать болезненную тяжесть, вдруг возникшую над переносицей, и включился в разговор, который зашел как раз о Египте. Чтобы проверить свое странное открытие и в некоторой надежде, что чары развеются, он заставил себя задать герметичной форме Пьера Ленуара вопрос о пирамиде Хеопса.
— Это действительно здорово, — ответил Пьер. — Мы были там с Мак-Арделлом, ну знаете, знаменитый нападающий шотландской сборной по регби. Для меня — это один из самых выдающихся людей наших дней. Он прямо создан для этой игры. Помню, как раз там, у пирамиды, я не мог налюбоваться его походкой. Чувствуется, что у парня в ногах какая-то прыгучесть…
Мсье Ласкен видел движение губ, слышал звуки, но смысла слов уловить не мог. Он почти ожидал этого, но тем не менее очень испугался. Боль во лбу давила все сильнее и, казалось, овладевала им, погружая в какое-то оцепенение. Настойчивым жестом он еще раз попытался ее прогнать. Пьер наклонился вперед, чтобы взглянуть на Мишелин, свою молодую жену, сидевшую через три стула от него, и проговорил:
— Помнишь Мак-Арделла у Хеопса?
Мишелин с вежливой улыбкой произнесла «да», не выказывая особого интереса к воспоминаниям о Мак-Арделле. Слева от нее сидел друг ее мужа, Бернар Ансело, которого заботливо пригласила мадам Ласкен. Это был юноша двадцати четырех лет с приятным и серьезным, почти грустным лицом. В его взгляде, бесконечно добром, иногда вспыхивал воинственный огонь, будто он внезапно вспоминал, что ничему нельзя доверять. Он мало говорил и часто в глубине души восхищался женой друга. Он видел ее такой красивой, белокурой, румяной, так живо представлял себе гармонию юного тела — даже немного горько становилось оттого, что на такую радость и чистоту для него наложен глупый запрет. С другой стороны, он с удовольствием отмечал, что у Мишелин отсутствует то наивное и вульгарное тщеславие, которое так часто можно заметить у женщин на первых порах удовлетворенной любви, когда они ощущают на себе взгляд возлюбленного.
Остальные гости, все — родственники, ничего не замечали, разве только то, что Мишелин выглядела счастливой. Мать ее часто повторяла, что она довольна ее внешним видом, и была благодарна за это Пьеру. До свадьбы ее бросало в дрожь от разговоров о том, что от современной молодежи неизвестно, чего ждать, и что парни развращаются во все более раннем возрасте. По возвращении дочери она пыталась вызвать ее на откровенность, подстеречь какое-нибудь проявление скрытого гнева, вспоминая собственные вспышки злости в первое время своей супружеской жизни, когда она украдкой бросала на мужа боязливо-возмущенный взгляд, что, впрочем, и сейчас еще случалось, хотя теперь ее больше беспокоило то, что агрессор окончательно умиротворился. Так вот, в поведении Мишелин ничего таинственного не было, и в ответах ее не чувствовалась сдержанность. Она вернулась из Египта порозовевшей, но ничуть не более обеспокоенной и скрытной, чем была бы после поездки на экскурсию со старой гувернанткой. Размышляя над этой удивительной безмятежностью, мадам Ласкен тихо убеждалась, что ее зять в некоторых отношениях неполноценен, и от этого он ей нравился еще больше.
Люк Пондебуа, великий писатель, двоюродный брат мсье Ласкена и тоже лет под пятьдесят, обводил стол проницательным взглядом, не слишком доброжелательным, в котором слегка ощущалась шутливая холодность, присущая его обычной манере держаться, так странно контрастирующей с его произведениями. Это был человек скорее тщедушный, не очень крепко сложенный, с большой головой, живыми глазами и крупным мягким носом. Он был католическим романистом, и во всех его романах витал образ некоего молочного и слегка сникшего Бога, никак не укорененного в этом бренном мире. В разговоре Пондебуа любил высказывать смелые идеи, трубя при этом, что у него есть родственники среди крупных промышленников. Благодаря столь умеренно-смелым выпадам им многие восхищались. Люди его круга побаивались писателя, будто у него в кармане были ключи от революции. Писатели из бывших бакалейщиков тем более дорожили его одобрением — им казалось, что ему приходилось проделывать долгий путь, чтобы до них опуститься.
Читать дальше
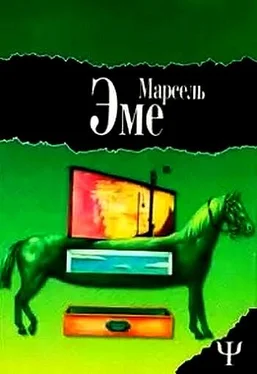
![Марсель Эме - Проходящий сквозь стены [Рассказы]](/books/26795/marsel-eme-prohodyachij-skvoz-steny-rasskazy-thumb.webp)
![Марсель Эме - Зелёная кобыла [Роман]](/books/28168/marsel-eme-zelenaya-kobyla-roman-thumb.webp)

