— Надеюсь, Мартен, ты не настолько глуп, чтобы сокрушаться из-за того, что случилось с Шазаром?
— О нет!
Ответ прозвучал настолько естественно, что выпалив эти слова, я почувствовал какое-то смущение и необходимость смягчить их. По правде говоря, совесть ни разу меня не мучила. Я просто испытывал сострадание к своей жертве и сильно сожалел о движении, сделанном в порыве гнева, ставшем для него роковым. Но ни днем ни ночью призрак Шазара не навещал меня. Однако такая пассивность моей совести очень беспокоила меня, и я, кажется, могу объяснить это, разумеется, не считая приводимые причины оправданием. Обстоятельства, при которых я совершил преступление, всегда действовали на меня успокаивающе, так как я почти уверен, что не хотел убивать. Тот факт, что Шазару было пятьдесят девять лет, также способствовал моему успокоению. Как я ни старался, мне никогда не удавалось освободиться от убеждения, что после пятидесяти лет старикам нечего делать на этой земле, где они кажут нам лишь свое физическое уродство и духовную ветхость. К тому же Шазар провел восемь месяцев в тюрьме — с сентября 44-го по апрель 45-го, — а партизаны, пришедшие его арестовать, били его и осыпали плевками. Без сомнения, он был невиновен, раз его освободили за отсутствием состава преступления, и все же из-за того, что его били, плевали на него, из-за неясных обстоятельств его заключения он представлялся мне — вопреки справедливости — подозрительным и нечистоплотным. И до, и после того случая я часто пытался восстановить истину, зафиксировать ее в моем сознании, но мне ни разу не удалось представить образ Шазара немного привлекательным. В этом смысле Татьяна одобряла мои чувства, и «несчастный случай» немало порадовал ее.
— Ты знаешь, что он был старой свиньей. Когда я еще девчонкой встречалась с ним на лестнице, он всякий раз пытался сунуть мне руку под юбку. Он это проделал раз двадцать.
Приятно узнать, что Шазар был старой свиньей. Таким образом получало оправдание и становилось законным мое отвращение к нему.
Когда мы вошли в квартиру, мадам Бувийон, стоя на коленях в столовой, читала книгу. Это была женщина старше пятидесяти лет, вовсе не похожая на дочь. Лицо ее оплыло, и ничто не указывало на то, что она была некогда великой красавицей, действительно, сколь далеко я ни шел в своих воспоминаниях, я не помнил ее красивой. У нее был кроткий и доброжелательный взгляд, говорила она спокойно, просто следуя каждому повороту мысли. Она поднялась и пошла нам навстречу, и когда Татьяна напомнила ей, кто я, лицо ее просветлело, хотя она меня не узнала, а имя «Мартен» не пробудило в ее памяти никаких воспоминаний. При этом она восприняла мое присутствие как совершенно естественное.
— Я рада, что вы пришли, — обратилась она к Татьяне. — Сегодня как раз годовщина смерти твоего бедного отца.
— Да нет же, что ты такое говоришь? Я тебе в двадцатый раз повторяю: папа умер 17-го июля.
Мадам Бувийон согласно кивнула, но от предыдущего утверждения не отказалась.
— Бедняга. Какая тоска умирать зимой, когда идет холодный дождь. Гроб приходится опускать в мокрую землю, и сердце сжимается при мысли об этом уже застывшем теле. В тот день, когда он в 1919 году подошел ко мне возле Галери Лафайет, тоже шел дождь. На Адриане была красивая форма лейтенанта или нет — старшины. Да, пожалуй, старшины. Он был герой. А сколько наград украшало его грудь! Особенно эта желтая медаль…
— Военная медаль.
— Да, военная. Она потерялась, когда мы переезжали с улицы Дам или с улицы Алези. Он подошел, и было нечто трогательное в том, что он обратился на улице к бедной девушке в изгнании, но первое, что я ему сказала, была ложь. Он удивлялся, что я, русская, так хорошо говорю по-французски, а я — дочь мелкого торговца сукном из Харькова, который давал немного в рост, — я сказала ему, что мой отец — граф. Сам Бог, наверное, подсказал мне эту полезную ложь. Адриан ведь собирался пойти со мной в какую-нибудь гостиницу, но перестал и думать об этом, когда услышал, что я — графская дочь. Всю жизнь он так гордился мной, что я не осмеливалась его разуверить.
— Мама, хватит утомлять Мартена историей твоего замужества. Приготовь-ка лучше поужинать.
Мать отправилась в кухню, а Татьяна повела меня в свою комнату, совсем маленькую, обставленную белой мебелью. На стене висела фотография Кати — ее старшей сестры, убитой в 40-м пулеметной очередью на дороге, по которой уходили беженцы. В моей памяти образ этой девушки как-то потускнел от сознания того, что ее нет, и это придавало ему строгость, словно трагическая судьба пометила девушку еще с рождения. Пока я разглядывал портрет, Татьяна раздевалась за моей спиной, и я был немного взволнован этой близостью. В стекле, закрывавшем фотографию, отражались движения ее обнаженного тела, хотя я и не мог различить ничего конкретного. Я вдруг подумал, что если сейчас обернусь и прижмусь лицом к ней, она не рассердится.
Читать дальше
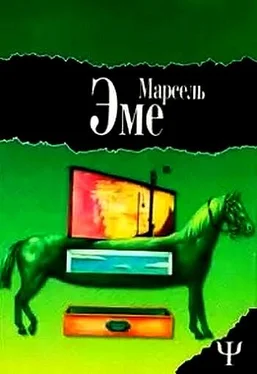
![Марсель Эме - Проходящий сквозь стены [Рассказы]](/books/26795/marsel-eme-prohodyachij-skvoz-steny-rasskazy-thumb.webp)
![Марсель Эме - Зелёная кобыла [Роман]](/books/28168/marsel-eme-zelenaya-kobyla-roman-thumb.webp)

