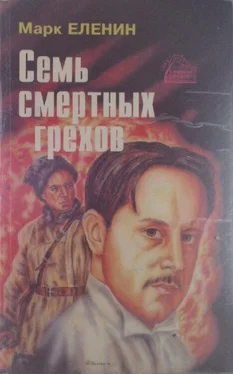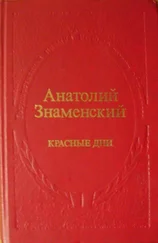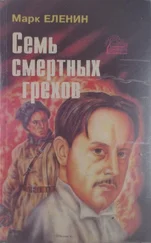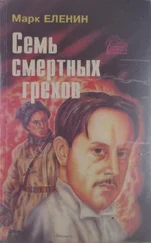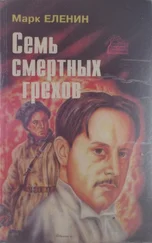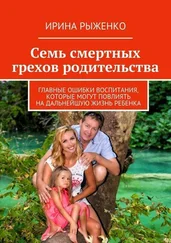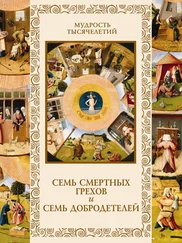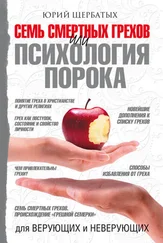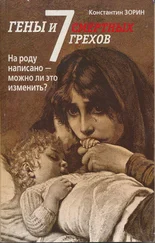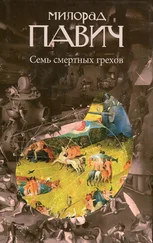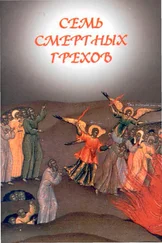В отличие от большинства эмигрантов Виталий Николаевич Шабеко ни в чем не испытывал недостатка и неудобств — благодаря заботам сына Леонида и его независимому положению. Сам Леонид Витальевич, правда, редко бывал дома: все разъезжал по городам и весям, где-то что-то покупал, где-то продавал, возвращался довольный. Судя по всему, его дела шли хорошо.
Они снимали второй этаж сравнительно нового дома. Весь городок, по существу, находился за серой крепостной стеной — маленький, игрушечный, словно театральная декорация: мощенные белыми плитами или плоско-тесаным серым камнем дома, магазинчики, открытые лавчонки с фруктами и овощами, аптека, кофейни и рестораны; полутемные улочки, переулки — вдвоем не разойтись; тупички, площадки (площадью и не назовешь!) величиной с суповую тарелку. А еще несколько мрачных зданий — тюрьма и казарма, оставшиеся от австро-венгерской монархии. И крепость, возвышающаяся на высоком холме, видная с любой точки бухты Которской. Там, под надежной охраной, размещались богатства Петербургской ссудной казны.
Виталий Николаевич Шабеко занял комнату с видом на площадь и арку, выводящую улочку на набережную. Часами просиживал он у окна, наблюдая незнакомую и непонятно почему притягательную жизнь: пестрые костюмы, неторопливую, полную собственного достоинства походку горожан; красоту местных женщин, в облике их явно видны были черты и турчанок, и византиек, и славянок; беззаботную живость мальчишек.
Екатерина Мироновна вела хозяйство. В уборке квартиры ей помогала старая молчаливая черногорка — сухая, жилистая, равнодушная к своим хозяевам. Чем больше Виталий Николаевич приглядывался к Екатерине Мироновне, тем больше она нравилась ему — природным умом и деловой сметкой и редким, особым даром видеть в людях их внутреннюю сущность.
День шел за днем, месяц за месяцем, поразительные в своей сонной одинаковости. В мире ежечасно совершались трагедии, звучали выстрелы, менялись правительства. Эмигранты из России, прожившись до нитки в Константинополе, кидались в отчаянии через океан в сказочную Бразилию, на кофейные плантации, где их покупали и продавали, как рабов; бедствовали на диком скалистом острове Халки, точно так же, как в просвещенном Берлине. Снова сажали на суда и развозили по чужим государствам солдат, которые по-прежнему, вопреки всякой логике, назывались армией; заключали тайные союзы дипломаты, которые немедля нарушались политиками... И только он, старый историк Шабеко, оставался один, лишенный человеческих контактов и правдивой информации, ибо русские газеты в Боку Которскую почти не приходили, а судить о происходящем по запоздалым французским или английским, проповедующим в отношении стран Адриатики взаимоисключающие идеи, было все равно что разгадывать сложнейший и бессмысленный ребус.
В самом городе размещалась какая-то офицерская рота, что ли — не то корниловцы, не то дроздовцы, — несла охрану Петербургской казны. Эти бродили по улицам гордые и высокомерные, с нескрываемым презрением, лишь при крайней необходимости общались с горожанами. Презрительно цедили слова, угрожали взглядами, точно дулами пистолетов, случалось, и матом сыпали, и руки поднимали на «дикарей, не уважавших мундира». Встречались Виталию Николаевичу и другие беженцы — обтрепанные, изуверившиеся, а то и просто нищие, просящие подаяние. Это были подлинные «избеглицы», те, кто считал унизительным для себя работать на лесоповале или строительстве дорог. Они протягивали ладонь с таким выражением, будто не куска хлеба просили, не мелкую монету, а давали руку для поцелуя. С их лиц не сходило выражение превосходства, презрения к тем, к кому они обращались за милостыней.
Профессор Шабеко сторонился и тех и других. На улице он старался отмежеваться от своих соплеменников, не показать, что и он принадлежит к постыдному племени «избеглиц». Он купил себе черногорскую шапочку нечто среднее между феской и тюбетейкой, отпустил клиновидную седую бородку. Он поправился от спокойной, размеренной жизни и, окончательно утратив схожесть с Чичиковым, стал похож на преподавателя медресе, знатока и толкователя Корана. Если бы не сильно увеличивающие очки, сменившие пенсне, неизменный костюм-тройка, светлое лицо и серые глаза, его никто и не принимал бы за русского. На прогулках в городе профессор говорил только по-французски. Однажды случай свел его со Здравко Ристичем — в прошлом капитаном, начинавшим службу еще на паруснике, командовавшим чайным клипером и закончившим недавно карьеру на утлом пароходике, ходившем в Италию, в Грецию и даже в Африку. Здравко — маленький, широкогрудый, с крепкими еще руками и лицом, загорелым до черноты, точно у мавра, с сиплым голосом и неистребимым оптимизмом — учил Шабеко сербскому языку. Поначалу, правда, они лишь раскланивались, затем старый мореход пригласил профессора выпить по чашечке кофе, повел туда, где подают лучший в Каттаро, с водой, необходимой для прополаскивания рта, чтоб вкус кофе ощущался сильнее. Шабеко ответил приглашением на обед в кафану. Они познакомились. Узнав, что его новый приятель — русский, Здравко, против ожидания профессора, даже обрадовался. И... заговорил на чистом русском языке: его дедушка воевал против турок, попал в плен, бежал и оказался в России.
Читать дальше