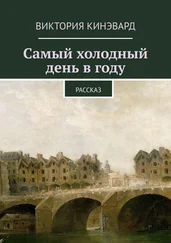Потому что, снова подумал он, Вероника должна была понять, что он узнает о балагане, который она устроила. Может, и устроила-то, мелькнуло у него в голове, надеясь вызвать его ревность. Специально чтобы заставить его ревновать, а потом ляпнуть ему что-нибудь вроде:
— А ты по какому праву требуешь от меня отчета?
Вот одно из возможных объяснений, хотя уж очень все грубо и не согласуется с ее обычным поведением. А вот другое объяснение: ей на него наплевать, огорчается, не огорчается — его дело, она молода, так почему же ей не развлечься? Ну и пускай, коли хочет, огорчается, ей, в общем-то, наплевать…
В это тоже не верилось, но, в конце концов, надо взять в расчет все возможные логические объяснения. И вдруг, вспомнив, как она танцевала, он захотел ее ударить; он представил себе: он поднимает руку и ударяет ее, ударяет по мокрому от слез беззащитному лицу, как тогда, когда она ездила в горы на свои первые студенческие каникулы и не прислала ему даже открытки; а вернувшись, зашла за ним на работу и ждала у входа, потом они молча пошли по тихому переулку; они сделали несколько шагов, и он остановился и равнодушно сказал, что нет смысла продолжать, что все кончено; и она ничего не сказала, только открывала и закрывала рот, не решаясь вымолвить ни слова, боялась, как бы он еще больше не рассердился и не ушел; она только стояла и глядела на него, а он чувствовал, что ей больно, и это в какой-то мере подогревало его, и когда он прикоснулся ладонью к ее лицу, оно было мокрым от слез.
И он снова ясно увидел, как заносит руку и ударяет ее, как бьет по лицу все сильнее, и все ему мало, потому что хочется не этого, не этого… Но он все бьет и бьет, и у нее даже не выступают эти красные пятна на скулах и висках — она и не пытается уклониться, и это беззащитное лицо, опущенные глаза, эти пухлые губы, сложенные трубочкой, как у сосущего младенца…
Промискуитет — в этом все дело, но почему так больно в этом себе признаваться? Он вспомнил, как была захламлена квартира, когда он сюда переехал, как трудно было привести ее в порядок. Вероника прибегала и убегала, у нее была сессия, и в конце концов его мама, бедняжка, все разобрала.
Да, ни много ни мало промискуитет, подумал он; теперь уже не вспоминается, как они гуляли в первый год по парку и это восхитительное чувство, будто он снова лицеист, ведь только тогда он целовал в парке девушку, — так, значит, время можно обратить вспять, раз можно снова прогуливаться в парке с девушкой. Немытая посуда громоздится на плите, вечно сверкающей подсолнечным маслом (это он жарил картошку); он видит ее обнаженное тело — она закрывается руками или его майкой, которую схватила, скомкала и прижала к груди. Вот так оно было, вот так, и вот почему он проснулся ночью и не может уснуть и снова слышит из-за стены или снизу бой часов. Сколько пробило, он не расслышал, но за окном появилась синева.
И все так же звенит в ушах.
Который из них спал с ней? — подумал он и перебрал по очереди всех, кто был на вечеринке, ему даже захотелось убедиться в ее неверности — чтобы оправдались его подозрения, тогда он мог бы ее возненавидеть и на этом все было бы кончено. Но он не был уверен, что она могла бы решиться, он ведь знал ее (знал?), может, она стелилась перед ними только в танце, на виду у жен, а те смотрели на нее с негодованием, с презрением, с завистью.
И хотя бы позвонила ему и сама рассказала, не дожидаясь, пока это сделают другие, не ставила бы его в смешное положение, не унижала бы… И снова ему представилось, как он ударяет ее, бьет изо всей силы по лицу. Но разве он когда-нибудь посмеет поднять на нее руку? Никогда.
За окном, все более синим, слышался стеклянный перезвон — воробьи; значит, настало утро. Он чувствовал удивительную свежесть, как будто проспал всю ночь, горло не саднило от табака и не было во рту, как обычно по утрам, металлического привкуса. Хватит, сказал он медленно и внятно, глядя ей в глаза, хватит. И знаешь? Устраивай свои представления где-нибудь в другом месте, не здесь… И уйди отсюда, уйди, мне некогда…
А она смотрела на него светло-карими глазами, которые казались светлее на ее слишком белом лице. Уйди, сказал он, уйди, возможно, все даже хуже, чем я думаю, возможно, тебе и вовсе наплевать. Но пока еще я хочу только одного: чтобы ты ушла, я не хочу больше о тебе слышать. Уйди, сказал он в последний раз, поднялся с кровати и пошел в ванную.
Он избегал смотреть в зеркало — лицо было желтоватое от бессонницы, под ввалившимися глазами мешки; так по вечерам, раздеваясь, он старался не видеть свой отросший живот. Потому что сейчас он чувствовал себя хорошо, неизвестно почему, но хорошо, просто жаль выйти из этого состояния.
Читать дальше

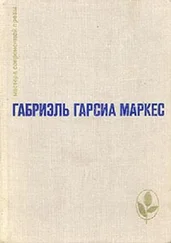






![Василий Орехов - День независимости [рассказ] [СИ litres]](/books/400407/vasilij-orehov-den-nezavisimosti-rasskaz-si-li-thumb.webp)
![Вячеслав Протасов - Мы живем на день раньше [Рассказы]](/books/421425/vyacheslav-protasov-my-zhivem-na-den-ranshe-rasskaz-thumb.webp)