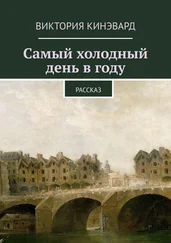И это только два варианта, к тому же не самые неприятные, а его воображение в подобных случаях неистощимо.
Продолжая держать на плечах полотенце, он устроился около диван-кровати — единственного предмета, сохранившегося от его семейной жизни, единственного материального знака, напоминающего о ней, — взял на колени телефон и набрал номер Вероники, его он знал на память. Многолетняя зависть к жизни холостяков оказалась беспочвенной — теперь, когда он остался один, приходилось признать: к сожалению, он приверженец моногамии, неизлечимый приверженец, из тех образчиков рода человеческого (малочисленных? многочисленных?), для кого заповеди (социальные, сексуальные — любые) запечатлелись раз и навсегда. Из всех женщин, которых он желал, которым подавал надежды, с которыми был близок за последнее время, его память избрала и безошибочно сохранила один-единственный образ.
Ну и вот, как всегда, с ним случилось именно то, чего он боялся: не ее знакомый голос — знакомый до ликующей боли во всем теле — прозвучал в трубке, а пронзительный дискант ее братца.
— Она в библиотеке, — протараторил парнишка с интонацией, в которой ему всегда чудилась наглость.
«Она в библиотеке»…
Словно с трудом сдержавшись, чтобы не прыснуть, потому что ни капли не верил, будто сестра в библиотеке, просто так его просили отвечать, вот он и отвечает, ему не жалко, пускай верят. Или, может, все проще: мальчик не сомневается, что она там, но за день ей звонило столько людей и он столько раз это ответил, что под конец ему стало тошно.
Этим ли объяснялся тон братца или чем-нибудь другим — откуда ему знать? Он положил трубку — разочарованно, нет, более того, затаив мелочную злость, поднимавшуюся всякий раз, когда его унижали. Надо что-то сделать, подавить эту злость: взять записную книжку, перелистать ее и позвонить наугад любой другой женщине. Из трех-четырех-пяти одну-то он сегодня застанет дома! Трусливое решение, он всегда откладывал его до поры, когда ему на самом деле будет невтерпеж; да и не было оно выходом из положения, потому что замены не существовало.
Как такое могло случиться, как он докатился до этого в своих отношениях с ней, он и сам не понимал — да и не все ли равно? В любом случае с завтрашнего дня пускай она сама добивается встреч, а он еще подумает, заставит ее подождать и только потом со скучающим видом согласится; но сегодня ему надо непременно, обязательно с ней поговорить. Сколько он себя помнил, ему всегда была необходима ясность — такова его натура, ему кажется, что все можно объяснить логически и, если поднапрячься, можно найти смысл, чаще всего самый простой.
Он сделал несколько шагов по комнате и устало опустился в кресло. Надо сесть за работу, еще три-четыре часа до сна, а то и больше, именно их-то ему обычно и не хватает. Разве он годами не жаловался, что ему некогда работать, что он буквально физически чувствует, как устаревает материал, потому что ему некогда работать? И вот они, эти вожделенные часы, он уже не чувствует себя усталым, а тишина прямо-таки гнетущая — слышно даже, как единственная муха время от времени ударяется о балконное стекло. У него в распоряжении все, о чем он мечтал, не надо даже раскладывать бумаги и производить подсчеты или листать записную книжку, чтобы сделать деловые звонки. Разве не об этом мечтал он так долго, не этой свободы ждал? Не потому ли годами с завистью смотрел на Антона Ромашкану?
Антон Ромашкану, старый холостяк, — они ежедневно встречались в буфете, в лифте, на автобусной остановке. Да еще по субботам, на именинах, в Новый год, на праздники они оказывались вместе, потому что у них по-прежнему была общая компания. Антон всегда появлялся в обществе один, и жены друзей питали к нему известную слабость — иначе зачем бы им искать предлога, чтобы увести его в уголок, брать по любому пустяку в сообщники, нашептывать ему свои маленькие тайны. Самые отважные, если во время танцев выключали свет, клали ему голову на плечо, а ближе к утру, когда лица осунутся и грим расползется от жары, бросали на него меланхолические взгляды.
Со временем, по мере того как неженатых мужчин становилось все меньше, акции Ромашкану росли. Сухопарый шатен с большим носом, он ел за двоих и при этом не толстел; благовоспитанный и выдержанный, что правда, то правда, но ничем не примечательный — ведь бросать время от времени ироническое замечание в чей-то адрес (частенько с полным ртом) еще не значит быть человеком светским. И все же он едва управлялся с приглашениями, потому что постоянно являлась нужда занять лишнюю — без кавалера — женщину, и даже когда мужчин и женщин оказывалось одинаковое количество, неугомонная хозяйка, чтобы обеспечить танцы, приглашала Ромашкану.
Читать дальше

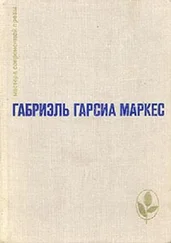






![Василий Орехов - День независимости [рассказ] [СИ litres]](/books/400407/vasilij-orehov-den-nezavisimosti-rasskaz-si-li-thumb.webp)
![Вячеслав Протасов - Мы живем на день раньше [Рассказы]](/books/421425/vyacheslav-protasov-my-zhivem-na-den-ranshe-rasskaz-thumb.webp)