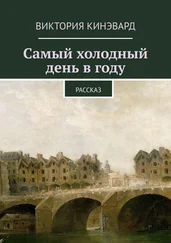— Алло! Подойдите к нам, пожалуйста! — каким-то необычно громким и уверенным голосом. — Послушай, — неожиданно оборачивается он к Петрине, с силой упираясь кулаком в стол. — Послушай, что ты скажешь, если я закажу что-нибудь поесть?
Петрина чертит ногтем по скатерти. Потом, подняв голову, улыбается, и по веселым искоркам в ее глазах он понимает, что ей давно уже хочется есть.
Небо над ними белое, какое-то тусклое, погасшее. Невидимые облака накрыли шоссе тенью. Гонимые ветром, они в постоянном движении, и полоски тусклого света, бороздящие черноту асфальта, ускользают по набережной вдаль.
Двенадцать лет мне было, когда я впервые попал в город, — говорит Оницою, и Петрина удивленно поднимает на него глаза. — Двенадцать… да-да… двенадцать, — бормочет он хмуро и изо всех сил налегает на нож. — У нас во дворе рос ореховый куст, помню, орехи были совсем еще зеленые, кожура с трудом снималась — знаешь, как это бывает, да? Ты собирала когда-нибудь лесные орехи?.. И все-таки я нарвал целую кошелку, подкараулил автобус и повез их в город…
Незадолго до этого отец погиб на войне; в семье было шестеро детей, и он, молчаливый худенький мальчик с невеселыми голубыми глазами, был старшим.
Я тебе поеду, — говорила мать, — и думать не моги, вот погоди, ужо узнаю, споймаю тебя… ты что, хочешь, чтоб люди видели, как ты на рынке торгуешь? — Они сидели в большой чистой горнице; чтобы солнце не испортило вещи, окна были закрыты бумагой; тут не топили даже зимой, потому что никто в комнате не спал, и холод пронизывал с порога. Мать не сводила глаз с новых домотканых ковриков, стопками сложенных на широкой постели, с наволочек, которые она сама еще девушкой вышивала. — Вот до чего мы докатились, — говорила она тихо, — в былые времена на селе уважение оказывали, а теперь вот до чего докатились: мальчик на рынок собрался — орехами с лотка торговать, выставлять себя перед родней на посмешище. — Родные-то по-прежнему жили зажиточно; чтобы не огорчать матушку, он поехал в город тайком.
Так и не мог он взять в толк, где в этом городе находилась Главная улица, и прослонялся целый день по Нижнему базару между распряженными телегами и горами арбузов… Пахло мокрым сеном, жареным мясом, цуйкой. Он крутился на пятачке: здесь были корчма, чесалка и две лавки — в одной продавались скобяные товары, в другой — свечи; а дальше, в конце улицы, там, где кустарник переходил в прибрежную рощу, мастерская каменотеса: утоптанный — ни травинки — двор со множеством белокаменных крестов. У ворот возвышался огромный солдат с ранцем за спиной и серо-зеленым ружьем на плече. Мальчик все возвращался в этот двор, уставленный крестами, пока не почувствовал, что больше нет сил — сесть бы тут и сидеть. Но заставил себя вернуться к корчме.
Толкнул дверь и застыл на пороге — пришлось зажмуриться, пока глаза не привыкли к унылому полумраку; потом отогнул тряпицу — чтобы видны были орехи — и стал молча обходить с кошелкой столы. Мужики в корчме сидели уже немолодые, в руках — стопки, на столах — хлебная водка. Обтрепанная одежда, запятнанные спецовки, застоявшийся запах немытых тел и мочи. Они пробовали орехи на зуб — зубы были почерневшие, редкие — и клали ему на ладонь монету. За стойкой корчмарь, подпоясанный длинным — ниже колен — грязным фартуком, из которого вываливалось толстое пузо, мыл у рукомойника стаканы.
— Эй, давай сюда! Слышишь, ты! Давай сюда! Сколько за все?
Верзила, который его выкликал, впрочем, может, и не такой уж верзила, как ему показалось, покачиваясь, запустил лапищу в кошелку и, глядя на него в упор, вытащил полную горсть орехов. Мальчик настороженно наблюдал за верзилой, душа ушла в пятки: он знал наперед, предвидел недоброе, так и вышло. Верзила притворился, будто орехи выскользнули, расставил пальцы, и орехи покатились по полу.
— Собирай! Давай собирай! Вот они, денежки!
Верзила размахивал замусоленной банкнотой, а все вокруг дружно хохотали.
Мальчик стоял неподвижно, с трудом сдерживая слезы; слезы подступали к горлу, казалось, вот-вот вырвутся, брызнут из глаз, из носа и он закричит пронзительно, по-птичьи. Выцарапать бы верзиле глаза, бросить в него корзину, ударить головой в пах… но нельзя! Надо взять себя в руки, терпеть.
— Давай собирай! Вот они, денежки!
Мальчик на четвереньках ползал под столами, сжав зубы и проклиная орехи, раскатившиеся по полу, провонявшему цуйкой, мазутом, вином и застарелой блевотиной.
— Вот еще здесь! Эй, да их навалом! Вон и там еще!..
Читать дальше

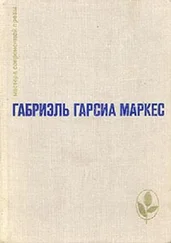






![Василий Орехов - День независимости [рассказ] [СИ litres]](/books/400407/vasilij-orehov-den-nezavisimosti-rasskaz-si-li-thumb.webp)
![Вячеслав Протасов - Мы живем на день раньше [Рассказы]](/books/421425/vyacheslav-protasov-my-zhivem-na-den-ranshe-rasskaz-thumb.webp)