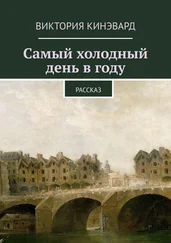— Значит, что же, кто-то из нас?.. Кто-то им все рассказывает, — скорее утверждает, чем спрашивает Петрина. — Я тоже так думала, только кто? Кто бы это мог быть? Как узнать? Кто…
— Стоп, — прерывает ее Оницою. — Стоп.
Какой смысл сообщать ей все подробности?
Его умиляют ее наивность и ученический жар в спорах. Он внимательно изучает ее слегка покатый лоб, прикрытый небрежно подстриженной челкой, живые маленькие глаза, на свету отдающие зеленью, густые пушистые брови, костлявые мальчишечьи колени, выглядывающие из-под юбки из эластика. И (уже в который раз!) он перечисляет ее недостатки, радуясь, что они у нее есть и что он их видит и все же пренебрегает ими — не так, как пренебрегаешь недостатками дорогого тебе существа (умиляясь им или не желая их замечать), а так, как перечисляешь в уме невыгодные стороны какой-нибудь вещи, которая тебе очень нужна и приносит тебе большую выгоду.
— Единственное, что я могу сказать… но это должно остаться между нами…
Серьезный взгляд Петрины говорит о том, что она обещает.
— …единственное, что я могу сказать, это что Ботезату разослал повсюду докладные записки: и в министерство, и районным властям — везде, где он нашел желающих его выслушать. И, думаю, каждую неделю он строчит новую…
— О-о-о! — удивляется Петрина. — О-о-о… А мы-то его сегодня в совет выбрали… Значит, об этом никому не известно… Может, было бы хорошо, чтобы люди знали, что он делает…
— Еще узнают, не беспокойся, еще узнают, еще услышат, — говорит Оницою. — Многие и сейчас знают, а что толку? Будто ты сама не видишь, какие у нас люди, их ничем не проймешь…
Пожалуй, голос у него разочарованный или даже презрительный. Годами служебные дела преследуют его и дома. Расписавшись в табеле и выйдя из здания, он как одержимый вспоминает все, что слышал и видел, секретные связи, которые заподозрил. Он терпеливо все соотносит, сопоставляет, выдвигает гипотезы, которые тут же приобретают для него достоверность. Помаленьку-полегоньку положение стороннего наблюдателя дало ему власть над всеми — как над пешками в игре; он суров и всемогущ, он вершит их судьбы. Да и кто лучше него знает историю учреждения за последние двадцать лет, кто еще в состоянии все взвесить и решить беспристрастно?
— Похоже, что скоро должны произойти перемены, большие перемены, — произносит он.
И снова голос его загадочен — он призывает Петрину держать язык за зубами, как тогда, по дороге на остановку. А она многозначительно смотрит на него и молчит.
Солнце светит вовсю, но по земле уже поползли косые усталые тени, и свет стал ласковым, далеким. Почему-то с некоторых пор Петрине на закате становится не по себе. Днем она мирно занимается своей работой, сидит на службе или, если нужно, едет в город, в вычислительный центр; но в этот предвечерний час предпочитает тихо сидеть дома. Иначе ее охватывает беспокойство, и от мучительного чувства, что по ее вине что-то потеряно, пропадает даром, она начинает унизительно суетиться. Впрочем, сейчас, уже потому, что рядом Оницою (хотя, собственно, что он ей?), тревога смазалась, почти не ощущается.
— И кажется, дни Олтяну сочтены, — весело заключает Оницою. — Вот так я, рассуждая логически, предсказываю ход событий.
Он сидит, заложив ногу на ногу (никогда Петрина не видела, чтобы он так сидел), поза какая-то застывшая и неловкая, но он весел. От пива бледные щеки слегка разрумянились, и появилась в нем какая-то удивительная (для него) безучастность.
— Ему будет трудно не быть больше никем… ни завотделом, ни представителем в совете, ни заместителем секретаря. Что же, прямо сразу от всего отказаться? — удивляется Петрина тоном рассудительного ребенка.
— Нет, сам он не откажется… хе, хе! Если бы от него зависело, он бы не отказался, — смеется Оницою. — Они от него откажутся, а это другое дело, понимаешь? Совсем другое дело…
И он залпом выпивает пиво.
— Хотя, знаешь… — Оницою понижает голос, как обычно, когда хочет сообщить секрет, несмотря на то, что вокруг нет никого, кто мог бы слышать, да и все это он говорил ей уже множество раз.
— Хотя, знаешь, лучше всего самому по возможности отказаться от высоких должностей… Ведь изменить все равно ничего не можешь… Только даром теряешь время, напрасно портишь нервы, потому что от тебя ничего не зависит, и ты в тысячу раз свободнее, когда ты рядовой…
И словно чтобы показать, что разговор окончен (ведь и разговоры-то, в сущности, ни к чему не ведут), он заерзал на стуле, поворачивается направо, налево, ищет глазами официантку, барабанит пальцами по столу, зовет:
Читать дальше

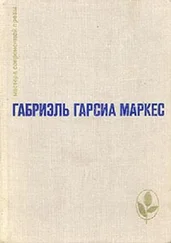






![Василий Орехов - День независимости [рассказ] [СИ litres]](/books/400407/vasilij-orehov-den-nezavisimosti-rasskaz-si-li-thumb.webp)
![Вячеслав Протасов - Мы живем на день раньше [Рассказы]](/books/421425/vyacheslav-protasov-my-zhivem-na-den-ranshe-rasskaz-thumb.webp)