Помню ее быстрые зубы, обгладывавшие с куриного крылышка (или шеи) мясо до последнего волоконца.
Помню ее трогательную бережливость, с которой она тратила каждый геллер или сантим, что злило моего отца. Ее фраза: я не хочу быть вам обузой. Что его, великодушного, по-настоящему сердило.
Помню ее коричневые в оранжевую полоску шерстяные домашние туфли с металлической пряжкой (чехословацкого производства), как она шаркала в них по дому незадолго до своей смерти, надломленная, поблекшая женщина.
Помню, как она жаловалась на газы и отрыжку, симптомы ее болезни.
Помню ее тонкие серебристо-белые волосы, закрученные в маленький узел; ее уши, с вытянутыми, как у Будды, мочками с сережками-гвоздиками.
Помню ее кротость, которая разительно отличалась от гневливости ее дочери. Думаю, она часто плакала. От жалости, от беспомощности.
Род Кондратовичей большой. Кузен моей бабушки, Иренеус, был епископом униатской церкви в Ужгороде. Как он пережил репрессии в советское время, я не знаю. Знаю только, что иконостасы для меня с тех пор магически притягательны, как и долгие, монотонные ритуалы греческого, русского богослужения.
В Ужгороде и по сей день живет Эрнест Кондратович, пейзажист и многократно «заслуженный деятель искусств Украины». Холмы, поля и леса Закарпатья на его картинах сияющие, яркие, сельские сюжеты сказочно-идиллические, как на Таити Гогена. Его и в девяносто три года по-прежнему тянет на природу. Наверное, он сумел бы мне объяснить, что такое малая родина.
Наши пути никогда не пересекались. Однажды, давным-давно, я ехала ночным поездом из Киева в Будапешт. В утренних сумерках я смотрела в окно: на каждой горушке – деревянная церковь. В Ужгороде я не вышла. Состав долго формировали на пограничной станции Чоп, потом он отправился по широкой равнине на юго-запад, в столицу Венгрии.
Восток Европы, на котором раскинута сеть моей семейной истории, я объехала вдоль и поперек, в основном, по рельсам. Пугающий и притягательный облик вокзалов: желтые, грязно-серые, запаршивевшие, запущенные вокзалы, с колоннами и без, с вонючей пивной или просто с буфетом, с засохшими геранями и железнодорожной будкой, с умершими в провинциальной тоске путями. Где-то звякнет колокол, взметнется машущая рука, и поезд покатится дальше. Вагонные окна грязны, в купе висит холодный туман. Сумеречный свет то пропадает, то появляется снова, следуя неведомым капризам. Снаружи тянутся поля, луга с тощими белыми коровами. Одинокий пес, хромая, бредет из деревни. И когда поезд вдруг останавливается, на перроне уже бешено жестикулирует и смеется орава цыганских ребятишек с коричневыми лицами. Не успеваю я помахать им в ответ, как нас настигает разлука. Мы отправляемся дальше, в такт шпалам. И странно, что это «дальше», словно само по себе этого недостаточно, нацелено не на прибытие, а представляется мне цепью расставаний. Крестьянка с ведром, на коленях у грядки – проехали. Лошадка с танцующей гривой – проехали. Колокольня с мощным куполом – проехали. Проворный столб дыма из трубы покосившейся хижины – проехали. Проехали молодую пару, что держась за руки, стоит за шлагбаумом, в согласном ожидании. Проехали озеро, сверкнувшее среди березового леска, проехали. Смотрю, читаю надписи на венгерском, словацком, литовском, меняют свой язык и проводники. И досыта насмотревшись, начитавшись, я погружаюсь в сон. Он бережно проносит меня по временам и пространствам, теплый кокон, из которого я в какой-то момент выкарабкиваюсь. В Каунасе, Кошице или Пече, после резкого свистка, который катапультирует меня в сонное настоящее.
Чего ищу я?
Стрелка внутреннего компаса указывает на восток. Но откуда это волнение, когда я вижу аллею с акациями, фрагмент низины, раскинутую как платок площадь, окаймленную одноэтажными домами. Словно зовет что-то: здесь. И никакое имя не сопровождает образ. Образ стоит за любым сознательным опытом. Он родом из таких закоулков памяти, которые я не могу ни контролировать, ни по-настоящему знать. И у него есть власть надо мной. (Дежавю, говорит М., разве это не свидетельство того, что мы уже много, даже несчетное число раз жили на этом свете?)
В снегу кособочится изгородь. Изгородь непременно кривая, деревенская. Тени, галки, все на месте. И я проваливаюсь в надцатое прошлое. Предпрошлое. За тридевять земель.
Затем отары овец, шерстистые на зеленом склоне, в степи. На крутых лугах. Жующие челюсти и волны, внезапно, когда отары начинают движение. Как правоспоминание.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



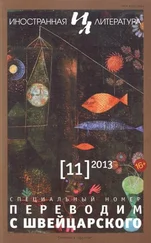


![Станислав Сергеев - Памяти не предав - Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/388335/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred-thumb.webp)





