Но занималась я бессистемно, застревая на своих «любимых» местах, которые я с восторгом повторяла. Пока «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» не избавила меня от этой дурной привычки. Из отдельных нот складывались пассажи. Движение захватывало меня и несло, закономерно и сильно. Никакого упрямства, никакого своеволия: Бах. Бах остался со мной навсегда, согласный с пульсом моей жизни.
Я была дитя слуха. Музыка тут же отвлекала меня от всего другого. Стоило только включить дома радио, как я больше ни на чем не могла сосредоточиться, только отбивала ногами такт. Едва из динамиков доносилась какая-нибудь мелодия, и все вопросы матери оставались без ответа. Что для других было просто звуковым фоном, для меня непроизвольно выходило на передний план. Я слушала – и молчала. Независимо от того, нравилась мне музыка или нет. Иногда она меня даже злила, но противостоять ее напору я не могла. Она забиралась мне в уши, заползала все глубже и глубже. И чтобы избавиться от нее, требовалось приложить усилия. Особенно упрямыми оказывались «уховертки», навязчивые мелодии. Единственным средством от них было – громко запеть что-нибудь им назло.
Я пела много. Больше всего мне нравилось петь, когда меня никто не слышит. А в Триесте было по-другому. Там я без всякого стеснения могла подойти к кому-нибудь в трамвае и спеть песенку. Мой репертуар состоял из венгерских и словенских песен. Я помню «Debrecenbe kéne menni», «Az a szép, az a szép» и «Moj očka ma konjička dva». Однажды мама взяла меня с собой на телеграф, и там, в деревянной кабине, я спела в серебряный раструб. Результатом явилась маленькая пластинка, запечатлевшая мое радостное пение.
Потом я пела для себя. По дороге в школу, на качелях, на вечернем лугу. Пела не известные песни, а собственные импровизации, чаще всего в миноре. Тексты песен я к тому же запоминала плохо. Лучше уж самой придумать что-то и мурлыкать себе под нос. Мурлыкать получалось хорошо, а насвистывать – нет. (Свистел хорошо брат, который петь не хотел).
По сути, пение шло у меня изнутри, как будто что-то хотело обрести выражение. Так пела Амелия, от избытка чувств. В то время как Миши не издавал ни звука.
Сейчас я пою в машине, одна. Пою при быстрой ходьбе русские солдатские песни, у которых нет конца, потому что конец является началом. И опять с начала, и дальше, дальше. По равнине, по степи. «Полюшко-поле…». И нет конца и края.
У Бартока я находила венгерские, словацкие, румынские народные песни. Он собирал песенное наследие и обрабатывал, в том числе и для фортепиано. Я играла его крестьянские и колыбельные песни. И однажды, много позже, стала разыскивать оригиналы. Слушала хриплые голоса на поцарапанных пластинках. Слушала визг, жалобу, бормотанье из беззубых старческих ртов. При всей унылости, в них была сила. Потому что мелодии заземлялись ритмом.
Ритмы Бартока (стучащие, пунктирные, экстатические). Парящие пассажи и кантилены Баха. Мои изыскания шли от Б до Б, мелкими, ровными шажками (словно шагали пальцы).
Что такое музыкальность? Мой слух был чутким. Я пела чисто. Я различала тона. Они порождали телесные ощущения, как и ритмы. Уже в Триесте я качалась в такт музыке на пляже.
Слушать, слушать, слушать. И подражать. Не обращалась ли я со словами, так же, как с музыкой? Мне было лет восемь, когда мы поехали во Францию в отпуск. Там я впервые услышала носовой французский, элегантность которого сразу же меня очаровала. Не прошло и десяти дней, как я начала имитировать французский: звуки, интонации, la belle musique. Хотя то, что я говорила, и не имело смысла, но звучало обманчиво похоже. Под надежной защитой нашего «студебеккера» я парлекала «по-французски», к удовольствию моих родителей, которые находили это забавным.
Больше звуков, чем смысла.
Еще и сегодня чужой язык я воспринимаю ухом. Именно потому, что я ничего не понимаю, особенности его звучания для меня пластичны: гортанность арабского, сонорность литовского, напоминающая древнегреческий язык. Фламандский язык «Дяди Вани» в постановке Люка Персеваля раскрыл для меня пьесу по новому, сделал ее современней и выразительней. И более плотной.
Ушко, ушко, слушай лучше, но не переслушай.
И ухо в ответ: I don’t care.
У Верни светлые волосы, смеющиеся голубые глаза и уверенный голос. В классе мы сидим порознь, но на переменах наши головы тут же сдвигаются. Он поддразнивает меня, я это позволяю. Это игра. Не такая, как «ад и рай», где надо скакать на одной ножке. Верни чего-то хочет от меня, какого-то подтверждения, может быть, жеста. О книгах мы не говорим. Книги его не интересуют. А вот мячом попадает в цель – и в меня. Привет, это значит, отвечай. Верни сильный, и хочет мне это доказать. А я? А я использую свободную от школьных занятий вторую половину дня среды. Давай пойдем в поход, как индейцы. Слегка изменить наряд – и да, непременно, в лес.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



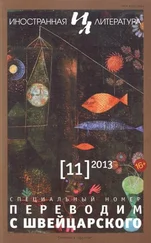


![Станислав Сергеев - Памяти не предав - Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/388335/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred-thumb.webp)





