Хохот, овации!
У нас любят не тех, кто служит тихо, а тех, кто служит лихо!
…Когда больше месяца уже не сходишь с лодки, начинается жуткое: ничего уже не хочется! К обеду всегда пол-литра «каберне», в кают-компании всегда коньяк, но не хочется ничего. Кок уже буквально стоит на голове — то подаст солененькую рыбку, то еще что-то остренькое, чтобы хоть как-то разбудить организм. Но не хочется ничего — второй месяц ты почти без движения!
Хлеб и булка хранятся в спирту — кладут в печку, спирт испаряется, хлеб и булка всегда как бы свежие,— но не хочется ничего.
С момента выхода в море тебе начисляется валюта, но тут как-то перестаешь это воспринимать… Зачем? И главное — перестает играть какую-либо роль время. Смотришь — четыре часа: утра или вечера,— тебе безразлично. Знаешь, что через час — на вахту, но что там наверху — темно или светло, тебе наплевать. Снова засыпая, слышишь, как при новом заглублении трещат «варыши» — будто хрустят под землей твои ребра… но тебе все равно.
Стук. Гурьич:
— Прошу в кают-компанию.
Задумчиво скребешь подбородок, идешь. Почему-то битком — все свободны от вахты.
— Где этот Кошкин опять?
Все, как всегда, ищут Кошкина.
— А в рундучной смотрели?
Гурьич, как фокусник, распахивает торт.
— Ну… с днем рождения тебя!
Появляется Кошкин и его менестрели — такие же бледные, пухлые, как и все мы. И тут, на страшной этой глубине, дудит оркестр.
У нас любят не тех, кто служит тихо, а кто служит лихо!
Лицо Гурьича, похожее на терку, скребет по моей щеке.
— Какой-то вы сегодня утомительно нежный,— бормочу я.
Бычок барабанит по леске, словно телеграфирует.
— Спим на вахте? — хрипит над моим ухом Гурьич.
— Никак нет!..
Рядом, разбив лазурь, плюхается Кошкин — видно, все же решил покончить с постылой жизнью! Из каюты выполз Высочанский, огляделся хмуро, словно перед ним и не Канны. Поднимает бинокль.
Увы, все всегда немножко не так, как мечталось! Он — автор регаты «Моря — яхтам», Главный Носитель Идеи. Его знают правительства, одобряют мэрии. Пока идут официальные церемонии, все более-менее ничего… Но только официальная тощища заканчивается — все накидываются абсолютно случайно почему-то на нас. На него же смотрят как-то вскользь. Видно, всех по-прежнему интересуют не Великие Идеи, а разные мелкие гадкие подробности. Увы!
И все надеются, напоив нас, выведать их. Ну что ж, дерзайте. Здоровье, скажу вам по секрету, уже не то. А еще по большему секрету скажу: то.
Ну, ничего. Хоть сами напьются. Тоже хорошо.
— Кока, дай-ка бинокль! — вылезая из воды, говорит Кошкин.
С тех пор как Высочанский окрестил нашу «Акулу» «Камбалой» и спас ее, Кошкин его иначе как кокой (крестным) не зовет. Высочанский почему-то обиженно отдает бинокль. Чего обижаться-то? Кошкин обшаривает берег.
— Ну, что? Есть там страшенные-то?
— Е-есть!
— Возьмем его к страшенным-то? — спрашиваю я Кошкина.
Бычок, пользуясь моей мечтательностью, скушал наживку и ушел. Ну, ничего. Это мы можем себе позволить.
Осень, переходящая в лето
Хроника
Утро в газовой камере
Только успели заснуть — тут же, как и всегда, проснулись от воплей и молча лежали в темноте. Нет! Безнадежно! Никогда это не кончится. И людям-то ничего не объяснить — не то что этому!
Мы долго прислушивались к переливам воя.
— А наш-то… солист! — проговорила жена, и по голосу было слышно, что она улыбается.
Да. Замечательно! Опера «Кэтс»! Сколько раз я тыкал его грязной расцарапанной мордой в календарь: «Не март еще! Ноябрь! Рано вам выть!» Бесполезно.
Я вышел на кухню, посмотрел на часы. Четыре! О Боже! Хотя бы перед таким днем, который нам предстоит, дали бы выспаться, но всем на все наплевать, акромя собственной блажи! А приблизительно через два часа начнется другая мука, более гнусная.
В отчаянии я плюхнулся в жесткую кровать. «Ну, что за жизнь?!» Дикие голоса в гулком дворе тянулись, переливались, составляя что-то вроде грузинского хора, и теперь я уже ясно различал речитативы нашего гада. Действительно: солист!
Одна наша подруга, поглаживая это чудовище, вернувшееся с помойки, ласково предложила нам его кастрировать, по дружбе за полцены: чик — и готово, он даже ничего не поймет. Но мы хотя бы не будем чувствовать моральных мук за то, что творится во дворе, и сможем наконец возмущаться, как благородные люди!
Но — пожалели. И как правильно говорят: ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Вкушаем плоды.
Читать дальше
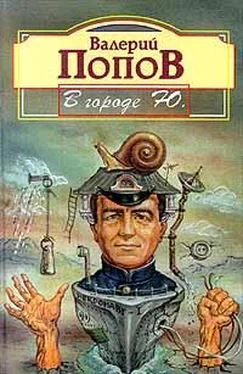

![Валерий Старовойтов - Возмездие [Повесть и рассказы]](/books/410983/valerij-starovojtov-vozmezdie-povest-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Все мы не красавцы [Повесть и рассказы]](/books/414372/valerij-popov-vse-my-ne-krasavcy-povest-i-rasska-thumb.webp)
![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Чернильный ангел [Повести и рассказы]](/books/414381/valerij-popov-chernilnyj-angel-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Две поездки в Москву [Повести и рассказы]](/books/414387/valerij-popov-dve-poezdki-v-moskvu-povesti-i-rass-thumb.webp)
![Валерий Попов - Нормальный ход [Повести, рассказы]](/books/414391/valerij-popov-normalnyj-hod-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)

