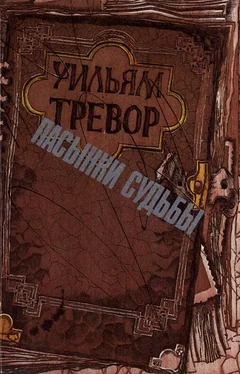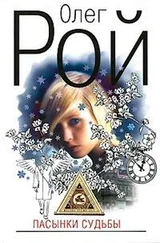— Имейте совесть! — вскричала тетя Фицюстас и замахнулась на собак сумкой. — Скажи им, Пэнси, чтобы они угомонились!
Выполняя ее просьбу, тетя Пэнси стала успокаивать собак, втолковывая им, как ужасно они себя ведут.
— Вот бы день рождения никогда не кончался! — сказала Имельда, уже лежа в постели и прочитав матери вслух «Отче наш». — Какой сегодня был чудесный день.
— Да, замечательный.
Нагнувшись, мать поцеловала ее и задернула занавески: за окном было еще совсем светло.
— Хорошо, когда рождение летом, — прошептала Имельда. Она стала придумывать, что бы еще сказать — мать отпускать не хотелось. Иногда перед сном мать рассказывала ей, какими были дом и сад до пожара, хотя сама знать этого не могла. Она рассказывала ей о красной гостиной, где летом пахло душистым горошком, и о портретах мистера и миссис Квинтон, живших давным-давно. Но сегодня матери явно не сиделось.
— А теперь спи, — ласково сказала она и еще раз поцеловала дочь на прощанье.
Лежа с открытыми глазами, Имельда попыталась представить себе эти портреты. А потом ей вспомнились две висевшие в столовой картины с видами Венеции: бледно-зеленая гондола у причала на одной и церковь с куполом неподалеку от моста на другой. Что такое гондола, ей разъяснила тетя Пэнси, а отец Килгаррифф рассказал, что в Венеции вместо улиц — каналы. «Вот бы поехать туда!» — вырвалось у Имельды, и отец Килгаррифф сказал, что, очень может быть, когда-нибудь она там и окажется.
Еще ей вспомнились ваза с искусственными цветами на буфете, тусклые серебряные чайники, пустые графины и щипцы для орехов, которыми пользовались на Рождество. В столовой было одиннадцать стульев красного дерева с такой же выцветшей, как и ковер, обивкой. Рисунок на обоях стерся совершенно, но если немного сдвинуть маленькую картину у входа, то видно было, что на них изображены перевязанные лентой букеты лилий. В простенке между окнами стояло очень тяжелое зеркало — не сдвинешь, а рядом висела еще одна картина, на которой был изображен водопад. Чего только в столовой не было: желтые вазы, тарелки, подсвечники; каминные часы показывали одно и то же время — без пяти шесть. Среди картин, висевших на лестнице, не было ни одной цветной, и Имельде они казались неинтересными, а про стоявшее в передней чучело павлина тетя Фицюстас говорила, что его давно уже пора выбросить.
Она никак не могла заснуть. «Считай собак», — советовала ей тетя Фицюстас. «Так и сделаю. Повеса, Стрелок, слепой сеттер Бриджит, спаниели Рыжий и Шалун, борзая Мёрфи, потом Ахилл, Клонакипти, Забияка, Сэм и Мейзи-Джейн. Мёрфи бросили в Лохе бродяги; священник, хозяин Мейзи-Джейн, умер; Клонакипти — название городка. Раньше были другие собаки: шпиц, керри-блю, два терьера: Малыш и Пчелка, а также хромой волкодав Людвиг». Имельда сосчитала всех собак, а потом взялась за кур (их было четырнадцать) и гусей.
Неделю назад, когда началась гроза и загремел гром, собаки от страха залаяли, а куры не обратили на гром никакого внимания — их больше беспокоил дождь. Филомена спряталась от молнии под кровать, а тетя Пэнси с чашкой жидкого чая с молоком в руках несколько раз лазила к ней. «Теперь ты лезь, Имельда», — сказала она наконец, когда это ей надоело.
Заснуть Имельда не могла из-за своего дня рождения — переволновалась. За ужином тетя Фицюстас заметила, что девочка все еще возбуждена, однако отец Килгаррифф сказал, что это в порядке вещей, а тетя Пэнси добавила, что в сочельник ей тоже никогда не спалось. Сейчас все они, наверно, собрались в гостиной и разожгли в камине огонь: в садовом крыле, считала тетя Фицюстас, холодно даже летом. Тетя Пэнси, вероятно, делает гербарий из цветов, отец Килгаррифф читает, мать Имельды сидит в своем новом платье в цветочек и записывает в дневник, как прошел пикник, а тетя Фицюстас курит сигарету за сигаретой и бросает окурки в огонь. Иной раз тетя Фицюстас листала каталог семян, обычно же просто курила. В опустившихся на мрачную гостиную сумерках суровое, в бакенбардах лицо Уильяма Гладстона выглядит, должно быть, еще более суровым, а старинные часы тикают еще более торжественно.
— Не помогли собаки — считай тутовые деревья, — наставляла ее тетя Фицюстас. — Начинай с левого угла сада, закрой глаза, и перед тобой будет возникать одно дерево за другим.
А тетя Пэнси говорила, что, если хочешь поскорее уснуть, лучше всего думать о чем-то приятном. Вообще, тетя Пэнси и тетя Фицюстас были такими разными, что, когда Имельда была маленькой, ей и в голову не приходило, что это родные сестры. Ей об этом сказала мать. За чаем тетя Пэнси всегда передавала джем и масло отцу Килгарриффу, или матери, или своей сестре. Она по многу раз вскакивала из-за стола поднять чепчик с оборками, который Филомена постоянно роняла — то на пол, то на блюдо с жареным мясом, стоявшее на буфете. Тетя Фицюстас всего этого не замечала. На губах у нее налипли табачные крошки, булавку для галстука в виде собачьей головы она часто прикалывала вверх ногами, а из-под старой твидовой шляпки выбивались растрепавшиеся седые волосы. Она косила траву, удобряла кусты и любила возиться с машиной: обливала ее водой из шланга, терла капот или обивку на сиденьях.
Читать дальше