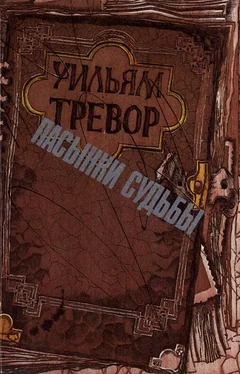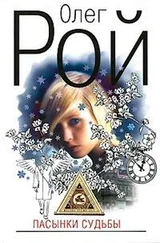— Джонни Лейси? — Мать запнулась, а затем, нахмурившись, в упор посмотрела на мистера Дерензи. — Джонни Лейси? — с нажимом повторила она. — Джонни Лейси?!
— Он уже давно ухаживает за Брайди Суини.
— А как же Джозефина?..
— Это, как говорится, пройденный этап, миссис Квинтон.
Мать неодобрительно покачала головой, а потом с озадаченным, как всегда, видом сказала, что уже давно уговаривает Джозефину вернуться в Лох.
— Ничего не поделаешь, — сказал мистер Дерензи.
— Кто-то засел у меня в голове, а кто — не пойму, — сказала в тот же вечер, уже лежа в постели, мать. Она налила себе немного виски (зубная боль, как видно, не проходила) и, наморщив лоб, мучительно соображала, кто бы это мог быть. А вдруг это мисс Халлиуэлл, которая нажаловалась на меня матери? Нет, вряд ли. Скорее, Джозефина, подумал я, но промолчал.
Мать нахмурилась и замотала головой, словно пытаясь отогнать дурные мысли. В первое время после свадьбы, вспомнилось ей, она обычно, дожидаясь отца, просиживала полдня на мельнице, чтобы вернуться домой вместе с ним.
— Хорошо помню, как я тебя рожала, Вилли. Помню красное от напряжения лицо доктора Хоугана, его начищенные сапоги — «как у охотника», почему-то подумалось тогда мне. «Ну, ну, миссис Квинтон, — приговаривал он, — когда я скажу, как следует поднатужьтесь».
Она подлила себе еще виски. Ты был красный, весь в складках, продолжала она, глазки крепко сжаты. И тут вдруг, словно забыв, о чем шла речь, мать воскликнула:
— Сообразила. Мне не дает покоя этот человек. Он возникает в памяти совершенно непроизвольно: думаешь о чем-то другом, а он вдруг возьмет и вспомнится. Этот ужасный сержант Радкин, Вилли.
Она заговорила о нем, стала допытываться, укладывается ли у меня в голове, что этот человек торгует овощами в своей ливерпульской лавке, а покупатели понятия не имеют, что он — убийца. Интересно, знай они, с кем имеют дело, ели бы они его капусту и укроп? Смеялись бы его шуткам, если бы знали, что он приказал пристрелить собак? Его лавку она описывала в таких мельчайших подробностях, что казалось, сама не раз там бывала: картошка в мешках, на полке консервированные фрукты, с крючков свисают связки бананов.
— Дьявол во плоти, — сказала мать.
5
«Вудкомский приход» значилось на почтовой бумаге, и я отчетливо представляю себе дом приходского священника, хотя в Дорсете не бывал ни разу. «Пожалуйста, приезжайте в Вудком», — настойчиво приглашали вы нас, но эти приглашения, подобно призывам моих тетушек из Килни и деда с бабкой из Индии, оставались без ответа; письма валялись в комнате матери, и если их кто и читал, так только я, да и то от нечего делать. В одном из этих писем говорилось о тебе: в сентябре, как раз когда я уехал в ту самую ненавистную школу под Дублином, ты должна была отправиться в Гемпшир, в пансион. Тогда ты уже знала о моем существовании, а я — о твоем.
«Здесь на табличке выбито имя моего отца, — писал я отцу Килгарриффу, — потому что он выступал за сборную школы по регби, хотя мне он об этом, насколько я помню, никогда не рассказывал. Я подружился с двумя мальчиками: с Рингом из Дублина и с Декурси из Уэстмита. Вот как проходит наш день:
В четверть восьмого утра звенит первый звонок, а через десять минут — второй. Если после второго звонка застают в постели — наказывают. Завтрак начинается без пяти восемь, после завтрака — молитва. Церковь, как выражается наш директор, — средоточие школьной жизни. Сам он — священник, англичанин, круглый, как мяч, с багровым лицом. Его жена носит синие чулки, волосы у нее седые, торчат во все стороны. Директору с женой прислуживает дворецкий Фукс. Декурси говорит, что черной одеждой и скорбным видом Фукс напоминает похоронного агента.
Уроки продолжаются все утро, с перерывом на завтрак в одиннадцать часов. В это время у входа в столовую на стол ставятся ведра с молоком, и каждый по очереди окунает в ведро свою кружку. Здесь принято также во время еды швырять в потолок куски масла, о чем в свое время рассказывал мне отец. Продолжаются уроки и после обеда, а потом мы занимаемся спортом, полдничаем и готовим домашнее задание. В крикет здесь играют в помещении, да и то только в весеннем семестре. На уроки, в школьную церковь и в столовую мы обязаны ходить в мантиях. По воскресеньям, идя в церковь, мы надеваем стихари, а учителя — специальные капюшоны, каждый своего цвета».
Капеллан был заикой и добряком, большим любителем регби. Старый Дов-Уайт, наш классный наставник, больше всего ценил собственный покой и ничего не имел против, когда на уроках латыни мы читали посторонние книжки, играли в карты или в кости. У Маньяка Мака, нашего математика, были рыжие усы и рыжая шевелюра, и он пребольно драл за уши. Кроме того, был еще какой-то тип в светлом пиджаке, который преподавал естественные дисциплины, и совершенно лысый мсье Бертен, любивший порассказать о своих ратных подвигах во время Германской войны. Гиббон по кличке Безнадежный был моложе самого младшего старосты и навести порядок не мог. Дов-Уайт курил трубку и прожег себе пиджак в нескольких местах.
Читать дальше