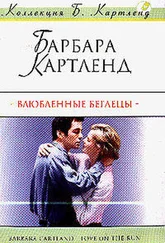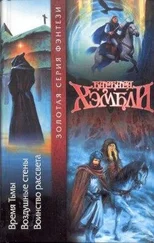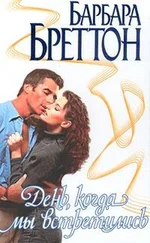Мексиканская пословица гласит: «Тот, кто не мешает, помогает». Я и впредь не намерен ни словом, ни действием мешать ни Троцкому, ни Четвертому интернационалу.
Недоразумение, вышедшее у нас с Троцким, спровоцировало письмо, которое я написал другу, французскому поэту Андре Бретону. Один из секретарей Троцкого по моей просьбе перепечатал письмо по-французски. Троцкому случайно попалась на глаза копия письма на столе секретаря, как он мне сам сообщил. Мои рассуждения о состоянии левых сил в мире, социальной роли художника, его правах и месте в революционном движении, а также личное мнение о Троцком так рассердили последнего, что он высказался обо мне в тоне, который я нахожу неприемлемым и который послужил причиной нашего разрыва.
Троцкий трудится без передышки, посвящая все силы своего ума долгой и утомительной работе по подготовке освобождения рабочих всего мира. При нем всегда целый штат молодых секретарей, добровольцев со всех концов света, готовых прийти на помощь. В то время как другие день и ночь пекутся о безопасности человека, который вместе с Лениным привел русский пролетариат к победе. И поныне эти и тысячи других героев Октября продолжают в изгнании, обусловленном сталинской контрреволюцией, трудиться для торжества рабочего движения во всем мире.
Враги, «организаторы поражения», Сталин и его ГПУ, преследуют героя Октября. Они упорно пытаются ему навредить, психологически уничтожить его (вспомним хотя бы истребление всего семейства)… Они угрожали и подвергали гонениям его ближайших соратников, пока наконец не казнили всех. Вполне естественно, что все это вкупе с болью, которую причиняет подобное положение дел, повлияло на героя Октября, несмотря на его недюжинную выдержку и силу воли. Стоит ли удивляться, что нрав Троцкого стал жестче, несмотря на его незаурядную доброту и благородство.
Я глубоко сожалею, что мне выпало на долю соприкоснуться с тяжелой стороной его натуры. Но я считаю ниже своего достоинства уходить от конфликта.
Дом Троцкого
1939–1940 (В. Б.)
В то утро, когда Лев и Наталья уезжали из Синего дома, с неба спустилась белая цапля, расправив крылья, точно парашют, и приземлилась во дворе. Вытянула изогнутую шею, сравнявшись ростом с человеком, и повертела по сторонам головой с длинным клювом, вглядываясь во всех, кто случился поблизости. Потом пошагала по плитам к воротам, сгибая долгие ноги в коленях, как человек, который едет на велосипеде. Начальник охраны чуть приоткрыл птице ворота; четверо мужчин с пистолетами провожали взглядом цаплю, которая перешла улицу Альенде и скрылась за углом.
Фрида сказала бы, что это знак в честь отъезда Льва. Но ее здесь нет, она в Париже, где кругом одни идиоты, если верить ее письмам. А Наталья не готова верить в знаки; она надела тот же шерстяной костюм и шляпу, в которых была в день, когда они приплыли на корабле из Норвегии. Лев не стал так кутаться: на нем была белая рубашка с расстегнутым воротником. Каждый нес по чемоданчику. Ван, рассеянный по причине очередной влюбленности (на этот раз в американку), не поднимая глаз, таскал ящики с бумагами в машину, присланную Диего. Самого Диего не было.
Под взглядом цапли все, должно быть, испытали укор; да и кто из домашних без греха? Фрида укатила прочь, бросив Диего и Льва, и им оказалось нечем, кроме раздражения, заполнить пустое место, лишившееся страсти. Бедняга Диего таков, каков есть. Организатор, который не может вовремя прийти на встречу, секретарь, забывающий ответить на письма. У него душа анархиста, а не партийного функционера.
Разумеется, отчасти виноват Сталин: над домом нависла исходящая от него угроза, он расправился с детьми Троцкого, его товарищами и соратниками, истребил весь его род. Злодеяния Сталина расплющили души обитателей этого дома, точно древние скелеты в пыли.
Но виновнее всех беспечный секретарь, из-за которого все и открылось.
Диего написал в газеты письмо о разрыве с Троцким, пояснив, что не хочет стоять на пути у великого человека. «Перенесенные страдания повлияли на него», — рассуждал он, не вдаваясь в подробности: так, словом не обмолвился о романе Старика и Фриды (потому что вроде бы все простил). В своей записке Ривера пожаловался Бретону: «Старый бородатый козел каждую минуту серьезен. Неужели нельзя хоть на вечер оставить революцию в покое и выпить со старым другом, который рискует всем? Который дал ему кров и кормил его и его свиту чертовых два года? Какой смертный способен выдержать этот угрюмый русский характер?»
Читать дальше