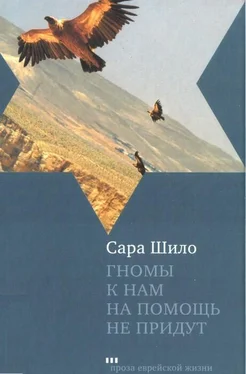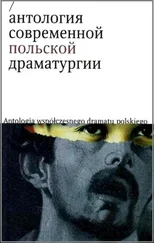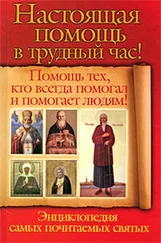Пока он говорил, он все время что-нибудь писал или рисовал, так что в результате весь стол у него оказался заваленным бумагой. Возьмет, например, чистый лист бумаги, напишет на нем одно-единственное слово, а внизу проведет черту. На листе, на котором он подсчитывал сколько каждый директор проработал в среднем, его карандаш даже бумагу порвал. А когда он сказал, что все предыдущие директора были умными, то взял папки с их делами и на каждой написал «умный». А еще он сказал, что рабочие на заводе — как фрукты, уложенные в ящик. Если один фрукт гнилой, его надо сразу же выбрасывать. А то и другие рядом с ним тоже загниют.
Он постоянно вставлял в свою речь какие-нибудь заковыристые выражения или цитаты. Например, сказал:
— Я обязан знать, что тут происходит — и у меня за спиной, и у меня под носом. Как говорится, «у мудрого глаза его — в голове его» [38] Еккл. 2, 14.
. Представь себе, что я слепой, которого ты переводишь через дорогу.
После чего взял бумагу и нарисовал, как я перевожу его через дорогу.
И кто бы мог подумать, что директор завода может так хорошо рисовать? Взять, например, нашего бывшего начальника, Цвику. Да у него даже и половины талантов Тальмона не было. Все время был какой-то усталый, злой и на подъем тяжелый. А Тальмона я не видел усталым ни разу. Когда бы ты с ним ни повстречался, он всегда свежий и бодрый — как будто только что на работу пришел.
Когда его стол оказался полностью завален бумагами, он выбросил их в корзину и говорит:
— Будешь теперь работать на складе. Это будет как бы твой собственный кабинет. Со столом и всем прочим. Фалафельная — это не для тебя.
А потом сказал, что я должен докладывать ему обо всем, о чем говорят рабочие, а также о том, что услышу в горсовете, в рабочем комитете и на рынке. Причем рынок его почему-то интересовал особенно сильно. Он все время повторял, что хочет знать, о чем люди болтают на рынке. И даже сейчас мне время от времени об этом напоминает. «Ты, — говорит, — про разговоры на рынке не забыл?» Как будто у нас в поселке людям больше и делать-то нечего, кроме как в четверг с утра пораньше на рынке собраться и трепаться там до посинения.
После нашего разговора он пошел делать обход завода, а я тем временем вынул из корзины бумажки, которые он выбросил, и унес их к себе. Включая рисунок с двумя кружочками, который он нарисовал последним. В одном кружочке он изобразил нас обоих на вершине горы. Мы стоим связанные веревкой и смеемся. А во втором кружочке мы висим с ним на этой же веревке мертвые, а над самим кружочком — большой жирный икс.
Мне страшно хочется посидеть у него в кабинете хотя бы еще один разок. Я буквально на все ради этого готов. И мне хочется, чтобы все было в точности как в тот раз. В то время у него не было еще этой его нынешней секретарши, Леи. Его секретаршей тогда была Хали. Но уже через месяц я дал ему добро на то, чтобы Хали уволить, и он посадил вместо нее Лею, которую привел со своего прежнего места работы. Однако теперь я очень сильно жалею, что мы выгнали Хали. Потому что эта Лея… Если ты, например, хочешь пройти к Тальмону в кабинет, она на тебя смотрит так, как будто ты муха какая-нибудь, и у тебя сразу все желание пропадает. Не было вокруг него тогда еще и всех этих людей, которые к нему сейчас зачастили и с которыми он по заводу расхаживает. И самоуверенности этой его нынешней тоже еще не было.
Я разглядываю его рисунки и вспоминаю, как он на меня в тот день смотрел. Расспрашивал меня о жизни и смотрел так, словно в целом мире для него важнее меня человека нету. Как будто разложил передо мной на столе все свои карты, а в этих картах написано: «Я, Исраэль Тальмон, без Коби ничего в своей жизни добиться не смогу. Без Коби я полный ноль». Он, кстати, и до сих пор еще к моему мнению прислушивается. Правда, не всегда. Например, я ему сказал, что Циона увольнять не стоит, но он все равно его уволил. За то, что тот заикнулся о сверхурочных. Наверное, решил, что он гнилой фрукт и его надо срочно из ящика вынимать. Но иногда он меня все-таки слушает. Например, доверяет мне людей для черных работ набирать и время от времени всякие вопросы мне задает. Короче, мы до сих пор с ним той веревкой связаны, которую он на своем рисунке изобразил, и я вижу, что он по-прежнему чувствует себя слепым, который не может ходить без палки.
Мне очень хочется, чтобы он еще раз раскрыл передо мной все свои карты; чтобы сказал уже наконец этой Лее, как я ему помогаю; чтобы на праздничном собрании перед Рош а-Шана или Песахом — когда он рассказывает о том, каких успехов добился наш завод за отчетный период, зачитывает производственные показатели и произносит тост, поднимая пластмассовый стаканчик, — чтобы он сказал им уже, кто я такой на самом деле; чтобы сказал, что без Коби он бы не смог продержаться на заводе целых два года; что без Коби он бы не увеличил количество рабочих мест с двадцати четырех до семидесяти трех, а количество заказов с пятидесяти до двухсот двадцати; что без Коби он не смог бы построить дополнительный, второй, корпус — а вместо этого упал бы в море и его услали бы в какую-нибудь дыру, безо всяких перспектив на дальнейшее продвижение по службе. Так нет же. Он никогда никого не выделяет и дает всем понять, что для него все важны одинаково, и в конце собрания, так и не сказав обо мне ни одного хорошего слова, запевает какую-нибудь песню — вроде «Те, кто сеют в слезах» или, там, «Тот, кто хорошо потрудился в канун субботы», — как будто тут не завод, а школа какая-нибудь. А потом поправляет на голове кипу и уходит. Все остальные тоже встают и начинают расходиться, а я сижу и чувствую, что ничего уже больше не понимаю — ни что такое добро, ни что такое зло — и все вокруг мне кажется черным.
Читать дальше