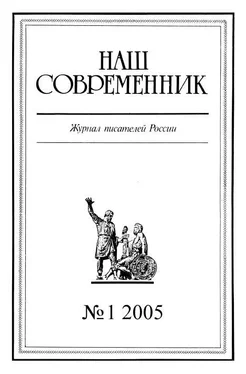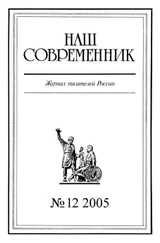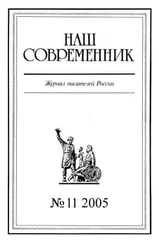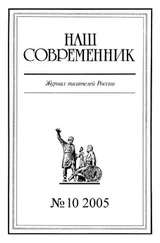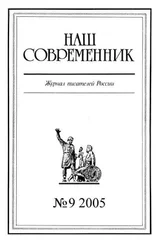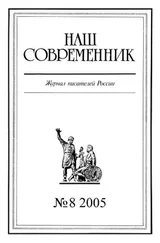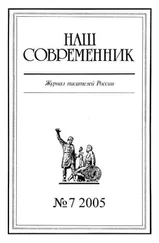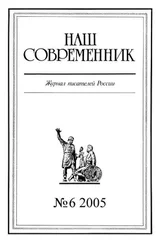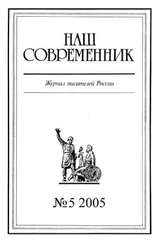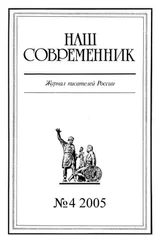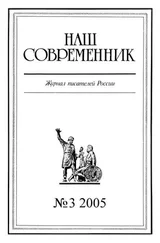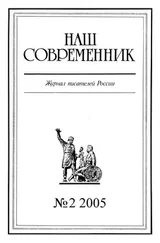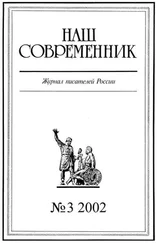Многих записывали в «птенцы гнезда Петрова» бездумно, ради красного словца. Но «русские европейцы», обрушившиеся на Пушкина, вне сомнения, родом оттуда. Теперь пришло их время — и они встали на крыло и воспарили, подхваченные сильным западным ветром. За эстетическими и этическими ширмами, расставленными критиками, скрывалось главное — их идеологические декларации. «Бородинская годовщина» и послание «Клеветникам России» стали своеобразными детонаторами, спровоцировавшими их появление на свет. Хотя ясно, что и без пушкинских стихов они бы уже недолго скрывались под спудом.
Суть идеологических возражений Пушкину сводилась к следующему.
Надо понимать (а кое-кто, «сбившийся с пахвей в своем патриотическом восторге», никак не уразумеет), что наступили новые времена, и «род восторга», которому предался Пушкин, есть отныне откровенный «анахронизм». Напрасно он думает, «что без патриотизма, как он его понимает, нельзя быть поэтом», — теперь очень даже можно. Пушкин вроде бы «всё постиг», но никак не дойдёт до него, что «просвещение европейское — великое, важнейшее дело». А его стихи — «совсем не европейского свойства», к тому же в них — полное «безмыслие». Ведь в сегодняшней Европе всецело властвуют передовые идеи, Европа на глазах возрождается — а где и что мы? (Заметим в скобках, что резоннее было бы сказать «вы» ). «Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию, нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем на ней». Продолжение ещё откровеннее: « Народные витии , если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим». (Понимал ли Вяземский, что он, говоря от имени европейских парламентариев и говоря так , фактически берёт их сторону? — думается, что князь прекрасно понимал всё.)
Вот ещё несколько цитат о России, русских и Пушкине из той знаменательной коллективной декларации. «Физическая Россия — Федора, а нравственная — дура». «Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врастяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч вёрст» (такова, по-видимому, на Руси дистанция между «европейцами»). Этой «дуре» (или, на выбор, «Федоре») «с Европою воевать была бы смерть», так как даже локальные польские дела обнажили все «немощи больного, измученного колосса ». К тому же русский полководец (не кто-то конкретный, а русский вообще ) не считается с любыми жертвами и думает единственно о том, «чтобы навязать на жену свою Екатерининскую ленту». Россия не вносит ни «гроша в казну общего просвещения». А пушкинские мнения — это всего лишь «нелепости», «фанфаронады», «квасной патриотизм»*, и в нём, в Пушкине, «есть ещё варварство», и он «не хочет выходить из своего варварства», что «стихи его „Клеветникам России“ доказывают». Он «варвар по отношению к Польше», да и не только он, и не только в этом отношении. «Пушкин и все русские, конечно, „варвары“, вообще „варвары“. Наша же цель — „быть европейцами“».
Вспоминается пушкинское: «Боже, как грустна наша Россия!», сказанное после авторского чтения первых глав «Мертвых душ». Сколько было в этих словах боли и любви, и вообще непоказной «душевной правды», так поразившей Гоголя, — и какая пропасть лежит между этим восклицанием поэта и отчуждёнными, презрительными речами его критиков. Ведь для последних «быть европейцами» значило, как явствует из источников, отказаться от любви к своей земле ради ценности высшей — «просвещения европейского»; мерить всё по европейской мерке и только её держать за эталон; значило предавать забвению собственную историю; а еще лгать, наушничать и применять «двойные стандарты», идеализируя предметы поклонения; оскорблять свою страну, её народ, её воинов и неугодных по духу поэтов; исторические победы своей страны посредством сомнительных софизмов представлять ее поражениями и т. д. Резюмируя и называя вещи своими именами, «быть европейцами» — значило быть варварами по отношению к России .
На такое Пушкин не мог не ответить — и поэт ответил, да еще как. А. И. Тургенев писал брату 20 сентября 1832 года, что были в те дни «споры», «Пушк<���ин> начал обвинять Вяземского, оправдывая себя». Более того, он высказывался на сей счет и вне пределов кружка «литературной аристократии», в более широких аудиториях. Например, Н. А. Муханов зафиксировал в дневнике 5 июля 1832 года: «Пришел Александр Пушкин. <���…> О Вяземском. Он сказал, что он человек ожесточенный, aigri, который не любит России, потому что она ему не по вкусу». Но наиболее сильным, разящим ответом Пушкина своим критикам был ответ поэтический .
Читать дальше