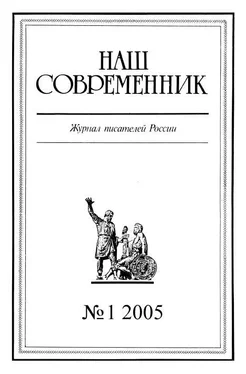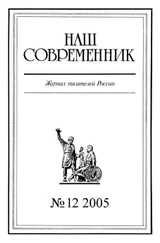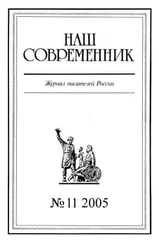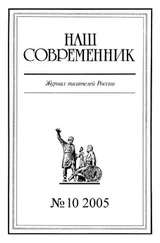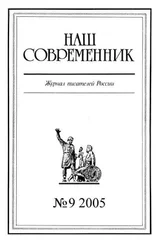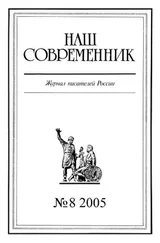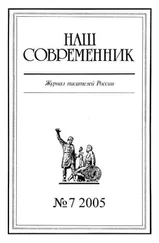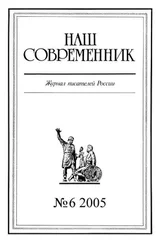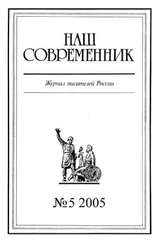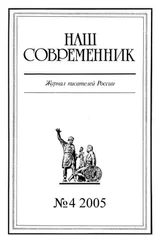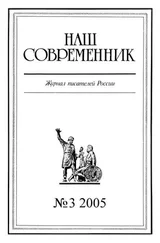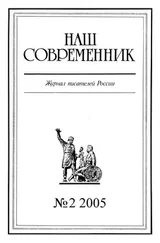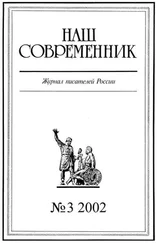Инкриминировались Пушкину и этические промахи. Мол, должно ему стыдиться, что русские «бились десять против одного», «что льву удалось наконец наложить лапу на мышь». Да и аморально поэту воспевать «геройство кровопролития», а потом «подражать дикарям, с песнями пляшущим вокруг костров, на которые положены их пленники». И уж совсем кощунственно — прямо-таки «святотатственно» — «сближать эпохи и события», «сочетать Бородино с Варшавою ». Тут следовало эпическое: «Россия вопиет против этого беззакония». (Россия Россией, но на всякий случай Вяземский, формируя антипушкинскую коалицию, постарался заручиться поддержкой и отдельных нужных россиян — например, Е. М. Хитрово, дочери Кутузова, которая крайне болезненно следила за тем, чтобы никто не посягнул на лавры отца. Обратился князь и к внучке полководца, Д. Ф. Фикельмон, и встретил у Долли полное единодушие: « Все , что вы говорите, я думала с первого мгновения, как я прочла эти стихи. Ваши мысли были до такой степени моими в этом случае, что благодаря одному этому я вижу, что между нами непременно есть сочувствие», — отвечала она 13 октября 1831 года.) Столь же некстати было Пушкину тревожить прах Суворова, так как «война наша с Польшею <���…> вовсе не Суворовская». «Нравственную» же «победу» в 1831 году одержали поляки — следовательно, Пушкин славит нравственное поражение русского оружия. После такого ему ничего не стоит воспевать и правительственные расправы в новгородских военных поселениях, и проч.
И здесь позиции критиков уязвимы, не говоря уж о том, что обвинения в «безнравственности» допустимо выслушивать единственно от благородных людей, гнушающихся подтасовок (а дикарские «песни и пляски вокруг костров» — подтасовка явная, достойная картеля; не случайно Вяземский, написав такое, спешно предупредил Е. М. Хитрово: «Все это должно быть сказано между нами…»). Едва ли этичны и декларации от имени «всей России». Прибегая к арифметике, несложно доказать, что соотношение сил «десять против одного» в пользу русских, воевавших на враждебной территории, — тоже ложь; вдобавок поляков в 1830–1831 годах поддерживал (в том числе и материально) весь Запад во главе с могучим Римом, мало похожим на «мышь». Да и с Суворовым выходит «двойной стандарт»: критики упрекают Пушкина за упоминание о генералиссимусе, настаивают, что русские под водительством И. Ф. Паскевича воевали бездарно, «без воли, без мысли и без отчета», «не по-суворовски» , — однако умалчивают о том, что легендарный полководец при подавлении опять-таки польского бунта в 1794 году разил неприятеля беспощадно, так, что «кровь текла потоками», и при штурме Варшавы уложил под стенами города до 12 000 поляков.
Заметно, что исторические экскурсы и аллюзии Пушкина вызвали нескрываемое раздражение инакомыслящих. И дело тут, видимо, вовсе не в Бородинском сражении или Суворове, а в принципе . Для Пушкина было чрезвычайно важно — и это сразу смекнули умные критики — не просто выступить с отповедью встрепенувшимся «клеветникам России» или поэтически увековечить факт — штурм и падение Варшавы, но дать — сквозь призму указанных современных происшествий — исторический очерк русского бытия в его узловых моментах. Тому подтверждение — дорогие для национальной памяти топонимы, имена и прочие символы былого, присутствующие в стихах: «пращур русских городов» Киев, Кремль, Прага (варшавское предместье), «пылающая Москва», «тяготеющий над царствами кумир» (Наполеон), «измаильский штык», те же Бородино и Суворов, Богдан (Хмельницкий)… Причем вехи русской истории не просто перечислялись, как в скупом хронографе, но и осмысливались во всём их неразрывном единстве и взаимообусловленности, фактически являя собой на выходе цельную историософию. Недаром П. Я. Чаадаев утверждал, что в пушкинских стихах «больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране». По Пушкину, в рамках такой историософии только и мог быть верно понят «старый спор славян между собою», получивший разрешение в настоящем .
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос…
Однако если для Пушкина «связь времён» не только существовала, но и являлась необходимым условием отечественного бытия, он гордился русским прошлым и категорически не желал «иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал», то его оппоненты стояли на диаметрально противоположных позициях. Русская история, вдобавок интегрированная Пушкиным в современность, им была не нужна; попросту говоря, идея преемственности им мешала. Для того чтобы утвердить новые воззрения, характерные для развившейся российской элиты, им надо было вычленить польские события из многовековой русской истории, разорвать опостылевшие путы минувшего; надо было перевернуть пожелтевшую страницу и начать с чистой, а значит — заклеймить пушкинский историзм как никчемный атавизм (помните: «не в наши дни…» и т. д.?) Что и попытались сделать критики с помощью неискренних придирок и неуклюжих фраз вроде «Россия вопиет против этого беззакония» и т. п.
Читать дальше