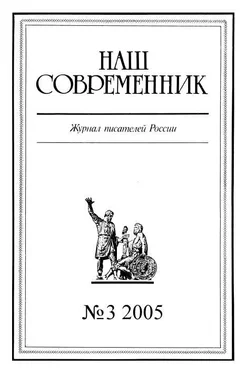Он коротко глянул на Павла, молчаливо лежащего на кровати возле противоположной стены.
— Жить стало труднее, вот и веруют, — предположил Колобов.
— Труднее всё-таки! — победоносно воскликнул собеседник.
— Да я не о том. На себя надо надеяться — и заработаешь получше, чем раньше. А у нас привыкли к «зряплате», вот и надеются на Бога. Раньше — на государство, а теперь — на Бога. Это, вроде того, самовнушение. — Последнее слово было произнесено неуверенно, как малоупотребимое. — А Бог разве поможет?..
— Поможет, — прошептал Павел Слегин, вспоминая, как три года назад, на исходе третьего троллейбусного круга, был незаслуженно помилован Господом. «Ничего себе самовнушение!..» — подумал он и щадяще улыбнулся.
«Как мне отблагодарить Тебя, Господи?» — спрашивал Павел, идучи той рождественской ночью из церкви. Он вспомнил три слова, сказанные ему несколько часов назад строгим небесным голосом. «Помни и молись», — это было похоже на ответ, опередивший возникновение вопроса, опередивший всякую попытку понять произошедшее. Но по пути из церкви мышление Павла, очистившееся от многолетней проказы, работающее, как у шестнадцатилетнего отличника Паши, цепкое и порывистое, склонное к рефлексии и максимализму, — мышление Павла поставило вопрос: «Как мне отблагодарить Тебя, Господи?» И ответом: «Помни и молись» — не удовлетворилось.
«Любой оказавшийся на моем месте помнил бы и молился, — размышлял спасенный. — Но ведь я-то самоубийца! Если я прощен…».
Ему вспомнилось, как совсем недавно, совсем недавно он доказывал теорему, стоя у коричневой доски, с белым мелком, зажатым между большим, указательным и средним пальцами (если бы не мелок, этой щепотью вполне можно было бы перекреститься). Прямоугольный меловой брусок то бесследно проскальзывал по доске, то густо крошился, а юноша комментировал недолговечные записи уверенным и снисходительным отличническим голосом: «Если угол равен…».
«Если я прощен, — размышлял Павел, — то спасение возможно для страшнейших грешников. А коли так, буду молиться обо всех знакомых — и о некрещеных, и о самоубийцах… И о бесе-искусителе надо молиться, — подумал он, улыбнувшись. — Молю Тебя, Боже, и об искусителе моем бесе, имя же его Ты, Господи, веси».
Светили фонари, звезды и луна. Поклонившись Богомладенцу, люди расходились по домам, подобно давнишним восточным волхвам, неторопливо возвращавшимся в страну гороскопов. Обгоняя остальных, легко и стремительно по дороге шел человек в фуфайке, продранной на рукаве, шел и, ничего вокруг не замечая, вопрошал: «Как мне отблагодарить Тебя, Господи?».
И вдруг он остановился.
— Да! — восторженно воскликнул он. — Это будет лучшей жертвой!
На него удивленно поглядели несколько прохожих, оказавшихся рядом, но вот он уже пошел, пошел молча и неторопливо, вот он уже свернул на боковую улицу, нам с ним не по пути и незачем о нем думать, скоро дойдем до дому — и спать, спать, спать…
Скучающий охранник в камуфляже и две кислоликие проститутки молчаливо курили на крыльце круглосуточного продовольственного магазина.
— Мой сосед идет, — сказала одна из барышень.
— А ты разве бомжуешь? — пошутил охранник.
— Он не бомж, он этажом выше живет, я — на третьем, а он — на четвертом, его дядя Паша звать.
— Твой хахаль, что ли? — спросила вторая и расхохоталась, а потом продолжила вполголоса, на фоне смеха собеседников — продолжила мрачно и ожесточенно: — Алкаш отмороженный, мой батяня такой же, ненавижу…
— Он вроде бы и не пьет — у него просто с головой непорядок. Он, кажется, с крыши свалился и с тех пор хромой и шизанутый. А пить — не пьет.
— В каком это месте он хромой? — полюбопытствовал охранник.
— Ой…
Миновав яркий магазин, Павел продолжил путь, освещаемый скудноватым светом фонарей, звезд и луны. Однако внутри пешехода сияло такое солнце, что глаза невольно щурились и слезились, губы улыбались, а мысли были медленными, мягкими и словно масляными.
«Это будет мой дар Тебе, Господи, — думал он. — Ты вернул мне разум, а я подарю его Тебе. Юродство Христа ради, высший путь служения Богу… Мне и убеждать-то никого не надо будет, что с ума сошел: убедил уже…».
— Не хромает, — проговорил охранник, — но лыбится, как придурок, это уж точно.
— Леш, он же еще вчера утром хромал, я видела…
— Значит, рождественское чудо, как у Диккенса, — ухмыльнулся Леша.
Он умудрялся совмещать работу магазинного цербера, а попутно и сутенера, с учебой в пединституте на филфаке и очень боялся, что не сдаст зарубежную литературу в эту зимнюю, зимнюю сессию.
Читать дальше