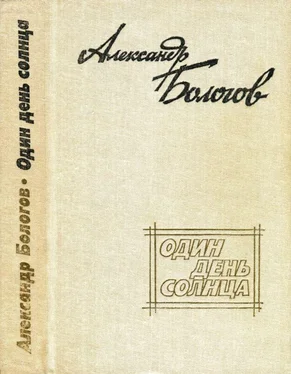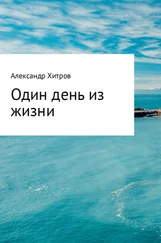Все это и многое, многое еще, что мерцало звездами в памяти и воскрешалось легко, как дыхание, было в прошлом. Воспоминание о нем никогда не угнетало, как это часто бывает у взрослых, и было неисчерпаемым и всегда доступным тайником далекой радости.
…Шаги и голоса группового патруля затихли в проулке, ребята перестали прислушиваться и, успокоившись, подтолкнули под бока и макушки обметанные кромки одеяла, надо было копить тепло.
— Кого ищут, ты думаешь? — спросил Костька. Шепот его заглушал все окружавшие и жившие внутри укрытия шумы и звуки.
— Кого найдут. — Вовка думал о чем-то другом, потому и ответил неопределенно.
— А знаешь, что сейчас по всему городу облавы делают?
— Ну?
— Этих ищут, кто немца в люк затолкнул…
В сточном люке у трамвайного депо немцы нашли труп своего солдата. Как всегда в таких случаях, они захватили десять оказавшихся поблизости от этого места жителей и прохожих и через два дня, после объявления по радио, расстреляли их у стены Госбанка. Глухая стена этого старого кирпичного здания, служившего казнохранилищем и до революции, выдержала не одну такую казнь.
Ходили слухи, что новое убийство солдата — дело рук партизан и подпольщиков, скрытно действующих в городе и окружающих деревнях. Их существование подтверждалось и в листовках, обнаруженных в некотором количестве на улицах, во дворах домов и даже на крышах: они, очевидно, были сброшены с самолета.
Костька с Вовкой не видели расстрела, о нем рассказал Ленчик Стебаков, обежавший всех знакомых по школе ребят и сообщивший, что среди убитых на площади заложников была и Марина Васильевна, воспитательница Городковского детсада. Мать и тут поплакала, порассуждала сквозь слезы, кто из детей и с кем мог остаться у Марины Васильевны.
— …Не найдут. — Вовка даже потряс натуго укрытой головой.
— Почему думаешь?
— А ты почему думаешь, что найдут?
— Я говорю: могут. По следам могут. Собаку пустят, это в сто раз легче. Потом допрашивать начнут…
— Кого? По каким следам? Что думаешь, они дураки — те, что немца под люк скинули? Если даже кого и поймают, про остальных не скажет.
— Да?
— Ни за что… У них клятва.
— Кровью?
— Конечно. До последней капли. На смерть.
Костька напряг коленки, в которых грел, сжимая, руки, сказал, глотая слюну:
— Я бы тоже ни за что не сказал, н-ни за что.
— Я бы сразу как-нибудь убился, чтоб не пытали. — Вовка так коротко и резко шмыгнул носом, что Костька и спрашивать его больше ни о чем не стал.
Как это делалось и до войны, лед у железнодорожного и городского мостов был взорван за несколько дней до начала подвижки. Однако, в отличие от прошлых лет, взрывы прозвучали не очень слышно и не вызвали того волнения и радостного беспокойства, которое всегда пробуждали у ребят, с каждым днем все гуще скапливавшихся у набережных парапетов и оживавших сходах к воде.
Зрелище ледокола вблизи Рабочего Городка было особенно сильным: старый монастырь в свое время прилепился к городу на скалистом выступе крутого берега реки, розово-красные кирпичные стены с ее стороны шли частью по границе слоистых известняковых обрывов. Берег со временем размывался дождевыми ручьями, сбегавшими к реке, осыпались и утаптывались спуски к ней, по которым обитатели соседней округи ходили за водой для стирки.
В большие разливы ближние улочки низкого противоположного берега заливала полая вода. С монастырского холма было хорошо видно, как захваченные врасплох жильцы затопленных мест собирались на крышах, втаскивали на них матрасы, подушки, одежду, как они передвигались от дома к дому на низких лодках — и делали все это, как казалось, спокойно, молча. А может быть, просто оттуда не долетали голоса..
Иногда это повторялось два-три года кряду, люди бедствовали на чердаках и крышах, вылавливали из воды плавающие вещи, но спадала вода, подсыхали улицы и огороды, и они — на вид без горя и печали — снова возвращались к своей обычной жизни… Для жителей других районов все это выглядело чудным и непонятным.
Егор Литков любил ледоход. До войны, когда жилось вольней, всегда караулил его начало, в этот день обязательно напивался и слонялся, задирая зевак, по берегу, слушая шорох льдин и всплески воды при их разломах. Иногда вскакивал на какую-нибудь льдину и, пьяно отмахиваясь от тех, кто пытался его остановить, приседал, пританцовывал на ней, махая руками забеспокоившимся свидетелям его ухарства. Инстинкт самосохранения срабатывал в нем четко: едва намечалась опасность серьезного отрыва от берега, Егор — пьян не пьян — вовремя успевал прыгнуть обратно, и дело в худшем случае обходилось мокрыми ногами да подтруниванием разочарованных зевак.
Читать дальше