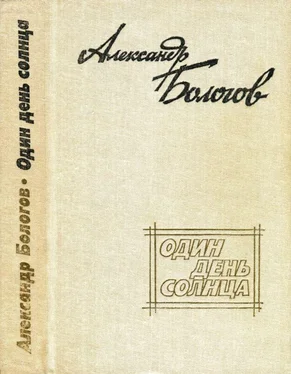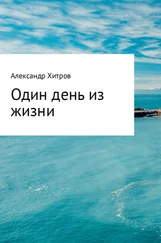— Не-ет… — Ксения опять затряслась, как в припадке. — В веревке…
15
Вовка на рубке хвороста рассек себе топором ногу. Пока мать пришла с работы, они с Костькой все успели сделать, чтоб она не узнала об этом или бы узнала как-нибудь позже. Палец со сбитым ногтем сначала посыпали золой, потом, испугавшись заражения, опять промыли рану, и Костька сбегал к Трясучке за йодом. Йод у нее уже весь вышел, и она, — узнав, зачем он понадобился, — дала жирного листа и какой-то темной мази и велела ногу завязать.
Дырку в опорке-сапоге, чтобы мать не увидала, кое-как зашили.
Сапог она сразу, конечно, не заметила, а хромоту Вовкину углядела в ту же минуту, как он захотел на двор и попытался пройти мимо нее на ровных ногах. Но они показались ей дурашливо ровными, так по нужде не шагают, если даже приспичит, и тут она все и выведала как прокурор. И раскрыть рану велела, и сама, переменив тряпку, заново перевязала палец и дала для удобства и чистоты надеть сверху стираный детский чулок. Туго было, больно поначалу, когда все раскрылось, тут уж и скрывать было нечего, но Вовка натянул его. По этой причине и пришлось с Ленкой остаться ему, а Костьке идти с матерью в деревню.
Ближние села были давно обхожены. Дороги к обмену все удлинялись и удлинялись.
Ксения и в этот раз шла не с пустыми руками, не побирушкой: несла в прилаженном за спиной мешке две сковородки и иглы для примусов, несколько кусков настоящего мыла, новые лопаты без черенков, даже бусы из мелких серебряных бляшек, подаренные Трясучкой за долгий уход при случившейся у ней желудочной болезни.
Чуть не померла, а выжила Серафима Игоревна, и это на ее, Ксеньину заботу она относит. Что правда, то правда, но не в одной ней, конечно, дело. Все по очереди дежурили, Вовка с Костькой тоже сидели и обихаживали больную, пока мать была на работе, пришлось побороть неудобство. Первый еще как-то быстро понял свое дело, а родной сын на первых порах и тазик подать не мог.
Все обошлось, слава богу, хотя Серафима Игоревна, совсем до последнего исхудавшая, и со смертью уже, кажется, согласилась, даже указала, во что одеть при кончине. А что же делать? Ксения и одеянье намеченное отобрала, и пообещала людей найти, чтобы гроб сделали, а сама и на базар не раз сходила вещи снесла — бараньего сала для питья, рису для отвара смогла достать, и к Мироновой бабке бегала за травами от желудка. Ей бы, Серафиме Игоревне, курить бросить, дать бы костям старым свежим воздухом подышать, но это — нет, не по нее, не по ее силам. Этим — еще даже говорит — только и держусь. Незаметно сдружившись с Ксенией, почувствовав доверие, о себе многое порассказала, о сестре своей ленинградской, о муже — об этом сама Ксения ее попросила, не выдержала.
— Я, — говорит, — Ксения, деточка, мало кому о нем рассказывала. Но, верьте мне, он прекрасный человек, он был вечное мое счастье в жизни, и я единственное чем живу — это его вспоминаю и все те случаи, когда он что-то говорил мне или что-то делал…
Вот так. Жена — есть жена. Сама работала учительницей музыки. Значит, она и сама очень образованная. Правда, в полдоме — он большой, с внутренней стенкой, со вторым ходом с другого проулка, — поселили добавочную семью, которая потом эвакуировалась. Вот в эту половину и перебрались их бывшие постояльцы, когда Костька легкие простудил.
Если подумать, неизвестно еще кто кому помог: Ксения с ребятами ей или же она всем им вместе. Сколько вещей хороших ей пришлось снести на базар, на еду отоварить?! Это просто судьба сжалилась.
— Случается, что и честному человеку повезет, деточка… — У нее на все случаи одно это слово.
Вот считает, что желудок ее на Линину судьбу отозвался, а не сама ли задумывала чего?.. Задумывала, а как другая решилась да сделала, так и спохватилась, так и душа — чуть не вон…
— Мам, сколько прошли?
Сыновний оклик словно разбудил, Ксения огляделась:
— Сколько?.. Сам считай… Звягино вон показалось, — значит, уже восемь верст отшагали, километров.
— А когда отдыхать будем? — Костька поравнялся с придержавшей шаг матерью, пошли рядом.
— А хочешь, в Звягине и остановимся, отдохнем?
— Думаешь, там чего возьмут? — Он слегка встряхнул свой мешок, в котором нес Трясучкины чайные чашки. Ксения даже забоялась:
— Осторожно, сынок! У тебя же там, сам знаешь… Эти вещи дорогие — фарфор…
В Звягине они даже в дома не стали заходить, и на них никто не обратил внимания, не глянул из-за окна, как в иных местах: тут, под городом, уже и к нищим на стук не выходили, и в обмен все отдали, что можно было. Надо было идти в дальние деревни — за Укромы, Утечу. Это Ксения понимала, потому и сократила как могла первый отдых, заторопила сына в нелегкую дорогу, которая дома всегда выглядит проще.
Читать дальше