Так прошла неделя, однажды вечером Галабер перед уходом из студии обратился ко мне:
— У меня к вам просьба. Я бы хотел сменить рубрику. Нет, не потому, что она мне не нравится. Просто это невозможно…
Он смущенно бормотал все новые и новые слова, стараясь оттянуть момент, когда я изолью на него свой гнев.
— Почему же это невозможно?
— Моя жена… — Он запнулся, и я постарался подбодрить его. — Ей не нравится, — сказал он.
— Что?
— Моя работа.
Этого только не хватало! Теперь этот сукин сын вообразил себя непризнанным гением. Ну что ж, мне это знакомо. Каждый неудачливый муж мнит себя Моцартом.
— Но это еще не причина менять рубрику, — сказал я. — Впрочем, мне больше и нечего вам предложить.
И я повернулся к нему спиной.
На следующую ночь он явился в студию, словно побитый пес. Однако, увидев меня, выпрямился и улыбнулся чуть ли не с видом превосходства:
— Я не подготовился к передаче. Я предупреждал вас.
Хотя обычно это и не в моем характере, я вышел из себя. Особенно возмутила меня его улыбка. Знаю, что вел себя не лучшим образом, но тогда я подумал: вот, вытащил этого субъекта из грязи, а теперь он задирает передо мной нос.
— Да вы просто тупица и лентяй, — сказал я. — И мне понятно, почему вы то и дело оказываетесь на улице и не можете найти себе серьезной работы. Предупреждаю, если вы еще раз не подготовитесь к выступлению, я не буду вас покрывать, и вы тут же будете выброшены вон. Я при всем желании ничего не смогу для вас сделать: существует начальство, которое контролирует нашу работу, есть табель посещения — короче, административная машина, которая вас не пощадит. — И добавил: — Могу себе представить, как вы надоели своей жене.
Но тут появился Бестер Китон, и я не договорил, устыдившись своих слов. Галабер промолчал. Он оставался в студии до конца передачи и ушел вместе со всеми.
После этого случая Галабер исправно читал свои тексты: «Дорогая дамочка…» Порой он задумывался и даже запинался, но передача шла прямо в эфир, и ему приходилось продолжать — под бесстрастным и строгим взглядом Бестера, нашего молчаливого судьи.
От той близости, что поначалу возникла между нами (если это можно назвать близостью), не осталось и следа. Мой выговор и угрозы, должно быть, убили едва зародившееся доверие, и теперь он видел во мне лишь своего патрона. Что ж, обижайся, думал я, зато теперь тебя не выгонят с работы и в конце месяца тебе будет что получить в кассе, чтобы спасти жену и сына от нищеты.
Впрочем, я частенько пытался представить себе, какая женщина могла выйти за подобного типа.
Однажды вечером он явился с рассеченной щекой — от скулы до подбородка.
— Несчастный случай, — пробормотал он.
— В самом деле? — переспросил я, столь нелепым показалось мне его объяснение.
— Да, — ответил он твердо, словно произнося клятву.
После чего умолк и не издал больше ни звука, пока не пришла его очередь идти к микрофону.
С этого дня из-за шрама он перестал бриться и зарос неряшливой желто-рыжей бородой, отчего еще более странным казался его блуждающий взгляд. Что же до его выступлений, то они стали совершенно бессвязными, и в конце концов мне пришлось сказать ему об этом. Осторожно выбирая слова, я попросил его изъясняться короче, говорить только о конкретных вещах и главное — никаких идей. Идеи — это совсем не то, что нужно на радио. Не помню точно, какие выражения я употреблял, но почему-то снова почувствовал себя виноватым. Единственное, что он произнес в ответ:
— Я приму это к сведению.
В голосе его прозвучала такая покорность, что я проникся к нему ненавистью.
На следующий день он не явился к началу передачи. Я уже было решил, что он вообще не придет, но тут он вошел, едва переводя дух. Нельзя было терять ни секунды. Литературная дама заканчивала одного английского романиста, и столько злобы было в ее голосе, что слово «заканчивать» подходит для данного случая как нельзя лучше. Я втолкнул его в студию.
— Ваша очередь. И главное, помните о том, что я вам вчера говорил: простота, правдивость, жизненность…
Никогда не забуду, что мне довелось затем услышать!
Прежде всего, спеша к микрофону, он по дороге опрокинул стул. Раздался ужасающий грохот. Наконец он уселся, достал из кармана бумажки и, громко шурша, стал вертеть их в руках, словно разучился читать, и при этом растерянно повторял:
— Дорогая дамочка… Дорогая дамочка…
Я взглянул на Бестера Китона. Он невозмутимо следил за своими стрелками, словно все шло нормально. Когда Галабер произносил свое «Дорогая дамочка…», стрелка уровня звука вздрагивала, а затем снова падала до нуля. Наконец он решился:
Читать дальше

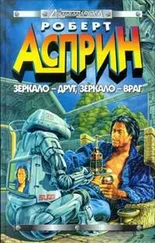
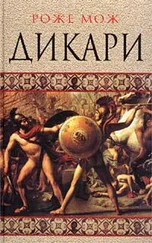




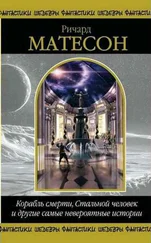

![Сергей Игнатьев - Зеркало воды [сборник litres]](/books/396825/sergej-ignatev-zerkalo-vody-sbornik-litres-thumb.webp)
![Инна Беляцкая - Зеркало вод [СИ]](/books/403376/inna-belyackaya-zerkalo-vod-si-thumb.webp)
