На следующий год я опять приехал в Памплону. Вандерфорд тоже, и, разумеется, он по-прежнему был с бородой, по-прежнему — двойник великого писателя. И вот какую любопытную вещь я обнаружил: поскольку настоящий Хемингуэй умер — ушел безвозвратно, — многие готовы были искать утешения в этой мистификации. Я и сам не раз пропускал с Вандерфордом стаканчик. Разговоры о том, чтобы обрезать ему бороду, прекратились.
Однажды, когда мы с ним шли по улице, ажан при виде его взял под козырек. Вандерфорд подошел, чтобы пожать ему руку. И тут полицейский сказал:
— Ну и врут же газетчики! Подумать только, писали, что вас нет в живых!
Но самым удивительным было то, что произошло с «содержателем отеля». Этот достойнейший человек, тонкий и душевный, для которого Эрнест был другом и божеством, перестал ненавидеть Вандерфорда и даже сблизился с ним, нередко доставал ему билеты на корриду. Мне думается, он так любил Хемингуэя, что общаться с Вандерфордом, пусть даже это был двойник великого писателя, поскольку настоящий писатель уже никогда больше не явится сюда на праздник святого Фермина, было для него еще одной данью старой дружбе, а также робкой и наивной попыткой опровергнуть смерть.
Перевод Л. Завьяловой.
Дамская рубрика* [16] Перевод впервые был опубликовав в «Неделе», 1969, № 32.
На улице Клери, в самом центре газетного квартала, я встречаю своего друга Луи Рейнье, и событие это нужно непременно отпраздновать. Мы видимся с Рейнье почти ежедневно и каждый раз отмечаем нашу встречу. Обычно мы заходим в бистро, которое славится среди знатоков своим сансерром [17] Белое вино. — Здесь и далее примечания переводчиков.
. Но сегодня жарко, и лучше взять пива. Мы уже допиваем наши кружки, когда к стойке подходит маленький сгорбленный старикашка. Рейнье подталкивает меня локтем:
— Знаешь его?
— Нет.
И тогда, явно рассчитывая удивить меня, Рейнье говорит:
— Это он подписывается Фрине и ведет светскую хронику в «Ви голуаз».
Мы наблюдаем, как Фрине выпивает стаканчик красного и удаляется семенящей походкой. Я заказываю еще по кружке.
— Надо же, Фрине… — повторяет Рейнье, ухмыляясь.
А во мне просыпаются… угрызения совести, да, иначе это не назовешь — пробуждаются воспоминания, тягостные и неотвязные. Сейчас, в разгаре лета, когда люди задыхаются на улице и в помещениях, жизнь в городе замирает, повседневная реальность гнетет нас меньше, чем обычно, и неожиданно, словно полуденный мираж, возникают тени прошлого. И ты невольно поддаешься грусти, проникаешься горечью и вынужден признать, что с прошлого лета в твоей жизни ничего не изменилось и ты все так же потягиваешь свое пиво.
Короче говоря, этот старикашка, вынужденный обманывать стольких подписчиков, этот несчастный — ведь хочется не только выжить, но и позволить себе иной раз маленькое удовольствие вроде стаканчика красного, — этот неудачник, которому раз в неделю благодаря псевдониму удается чудодейственным образом превращаться в воображении тысяч мечтателей в существо загадочное, чувственное и порочное, сочетающее античное бесстыдство с парижской фривольностью, этот хитроумный поденщик напомнил мне вдруг Галабера.
Действительно, между ними много общего. Ведь и Галаберу, несмотря на его уродливую физиономию, закрытый глаз, рыжие лохмы, грязный, потрепанный костюм и скверный запах, поручили вести дамскую рубрику — только на радио. И произошло это не без моей помощи. Он вел передачи для женщин… Случай, проявленное к нему сострадание или насмешка судьбы вынудили его заняться столь не подходящим для него делом. И это пугало, этот бродяга неизменно начинал свое выступление с сюсюкающего: «Дорогая дамочка…» Уверяю вас, он и не думал шутить. Напротив, он очень старался…
Должен признаться, я и сам в ту пору верил в радио…
В мои обязанности входила подготовка передач, предназначенных для жителей далекого острова, затерянного в Индийском океане. Любовно и старательно (сегодня, вспоминая об этом, я только плечами пожимаю) готовил я эта передачи, чередуя новости, развлекательные музыкальные программы и радиопостановки. Повторяю, я верил тогда в это дело.
Поначалу мы вели вещание на коротких волнах. Из-за отдаленности острова и разницы во времени приступать к работе нужно было в четыре часа утра. И в течение двух лет каждый день я являлся в студию в этот ранний час. А потом выяснилось, что нашу станцию слышно только в радиусе пятидесяти километров от Парижа.
Читать дальше

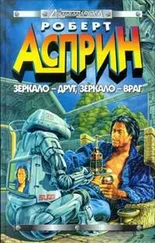
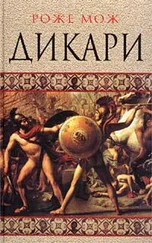




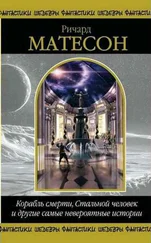

![Сергей Игнатьев - Зеркало воды [сборник litres]](/books/396825/sergej-ignatev-zerkalo-vody-sbornik-litres-thumb.webp)
![Инна Беляцкая - Зеркало вод [СИ]](/books/403376/inna-belyackaya-zerkalo-vod-si-thumb.webp)
