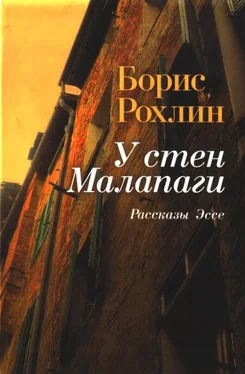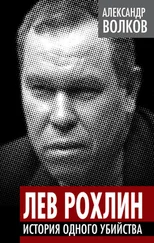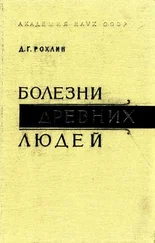Не знаю, как в эмиграции, но тогда он писал очень много, по два-три рассказа в день, словно навёрстывая упущенное не по своей воле. Казалось, это был бег на длинную, почти бесконечную дистанцию, где надо было во что бы то ни стало догнать и обогнать всех тех, кто, как ему казалось, ушёл вперёд. И, в общем, так и получилось — дистанция длиной в жизнь, увы, слишком короткая, если складывать её из дней и лет, но заполненная письмом, русским алфавитом… Как говорил сам Сергей: «Какое счастье, я знаю русский алфавит». Что ж, для художника судьба прекрасная — двенадцать изданных при жизни книг, успех у читателей, признание критики, — увы, американских читателей и американской критики… До издания сборника на родине Сергей, к сожалению, не дожил.
Во второй половине шестидесятых, в семидесятые годы он, действительно, много писал. Как-то он сказал: «Я написал уже три тысячи страниц». Но, как ни странно, при такой работоспособности внешне Сергей жил скорее жизнью праздного гуляки. Труд был незаметен, был виден только результат: написанные рассказы.
Не знаю определённо, но навряд ли это был сознательный метод, во всяком случае, мне казалось, что рассказы пишутся, именно пишутся, в два приёма. Вначале это было устное повествование, излагаемое за бутылкой водки, излагаемое с блеском, лёгкостью и остроумием. Что здесь можно сказать? Это было настолько талантливо, я бы сказал, расточительно, избыточно талантливо, что на этом всё должно было бы заканчиваться.
Представлялось ненужным, да и просто невозможным переносить это на бумагу, всё будет потеряно: точность каждого слова, детали, завершённость всего устного текста, и, пожалуй, главное — слова, перенесённые на бумагу, превратятся из живых звуков в мёртвые буквы, правильно расставленные, и только.
Это ощущение или, точнее, боязнь была скорее всего связана с обаянием Довлатова-рассказчика. Ведь нельзя перенести на бумагу с помощью пишущей машинки жест, улыбку, гримасу или опрокидываемую стопку водки.
Но на следующий день происходило другое чудо. Вечером за тем же столом — или уже за другим — Сергей читал рассказ, а то и два-три рассказа, написанные непонятно когда — и они были столь же блистательно остроумны, столь же завершённы, как их устные прототипы.
Только в нашей странно перевёрнутой, поставленной на голову жизни эти рассказы могли остаться ненапечатанными, обречены были на почётное существование в столе писателя.
Мне кажется, что как художнику Довлатову в высшей степени свойственно чувство детали, подробности. Думаю, это его врождённое качество, хотя и знакомство с американцами, и любовь к ним не прошли даром.
Однажды при написании рассказа (названия его я не помню, но речь в нём шла об американском матросе, «арестованном» двумя блондинками в клубе моряков и влекомом ими по Новой Голландии) он увидел, что ему недостаёт деталей этого района старого Петербурга, и решил позаимствовать подробности в моём рассказе, который так и назывался: «Новая Голландия», — и был просто возмущён, не найдя там ничего, что говорило бы о том, что место действия и вправду Новая Голландия, а не, как он выразился, к примеру, Новая Каледония.
Он пользовался словами не для создания некоего неопределённого ощущения, а для передачи плотности, вещности того, о чём рассказывается.
Как человеку Довлатову была свойственна острая рефлексия и одновременно боязнь обнаружить её. Он удивительно болезненно реагировал на любой отзыв приятелей о написанном им, а отзывы частенько стремились быть не менее «художественными», чем сама проза. Скажем, поди догадайся, что значит такой отзыв: «Гениальное неудачное произведение Довлатова» (о повести «Стена»).
Так какое же всё-таки написал ты произведение: гениальное или чёрт-те знает что?
Он часто возвращался к старым рассказам и переделывал их. Одно это говорит о том, насколько серьёзно Сергей относился к своей литературной работе, а внешне это часто казалось весёлым балаганом на потребу публике, шутовством и балагурством. Он доказал, что не обязательно творить с серьёзной физиономией, в молитвенной позе, показывая всем, что приносишь себя в жертву творчеству, хотя, возможно, его писательство и было жертвоприношением, незримым для окружающих.
Вообще Довлатов был совершенно чужд пафоса и восторженности. Он воспринимал и принимал людей — да и самого себя — такими, как они есть, не ожидая и не требуя от них подвигов, на которые — он это прекрасно сознавал — способен не всякий.
Читать дальше