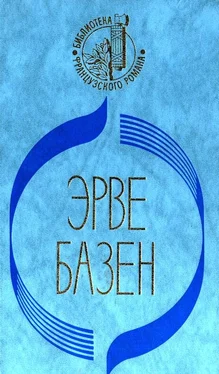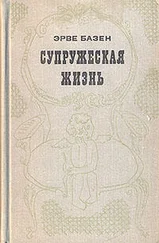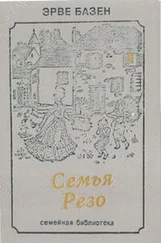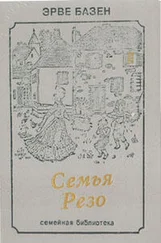— Изабель, где ты? — крикнул кто-то со стороны дома.
Я помчалась в обратном направлении. Парк вдруг стал слишком маленьким; я перепрыгнула через насыпь и понеслась по «Буваровскому лугу» — огромному выпасу, арендованному одним мясоторговцем и усеянному старыми коровьими лепешками, жесткими, как галеты. Голос преследовал меня:
— Где ты, Изабель? Пора!
Что пора? Меня преследовал и другой голос, который было слышно и без помощи ушей. «Беги, девочка, беги, ты постепенно себя догонишь, чтобы лучше слышать! У нас есть еще, о чем поговорить. Ты подумала о том, что не затмила бы свою мать, если бы ее не изуродовало? Мы молоденькие, свеженькие, у нас подвижные колени и твердая грудь. Но для него это лишь новизна, а не красота, а для того, чтобы поддаться дьявольскому искушению, надо лишь испытать воздержание. Держи его крепче, Изабель: шутка сказать, он может сбежать от тебя, если выздоровеет твоя мать…»
В этот момент моя юбка за что-то зацепилась. Я обернулась с глухим криком, но виновата была всего лишь ползучая ветка ежевики, отделившаяся от изгороди, вдоль которой я бежала, не находя выхода. Я посмотрела на свои подмоченные часы, в которых между стрелками, застывшими у цифры «6», плавал шарик воздуха. Было наверняка около восьми часов. Зов возобновился, и вскоре на краю выпаса появился Морис с портфелем под мышкой, все так же окликая меня и размахивая правой рукой.
* * *
Ноги у меня стали ватными, я не могла больше шагу ступить. Я с раздражением смотрела, как он меряет поле большими, ровными шагами, старательно ставя ноги между лепешками, — и все это слишком выверенно для походки взволнованного человека, какой она должна была быть. Неужели он настолько уверен в себе, уверен во мне? С самого пробуждения я боялась этой минуты, разрываясь между желанием встретить его в штыки и уткнуться в его пиджак. В тот момент, когда, приблизившись ко мне на несколько метров, он окинул взглядом близлежащие изгороди, удобные для подслушивания, тоска и озлобленность слились во мне воедино, подсказав третью манеру поведения: «Будь с ним мила, не более, будто ничего не случилось, и тогда он сам не будет знать, что делать!»
Но Морис крикнул, наверное, в виде предупреждения, чтобы я не бросилась ему на шею:
— Надо же! Малышка Шазю уже выгоняет стадо.
И сам протянул мне руку, шепча:
— Я не целую тебя, дорогая: на нас смотрят.
Затем сразу же подцепил меня под локоть, беря на буксир:
— Пошли, сейчас только четверть девятого, но сегодня лучше уехать пораньше.
Никаких вопросов, никаких замечаний. Решительно, во всех ситуациях он пользовался одинаковым приемом: тактичность, ненавязчивость, бальзам молчания на тайные раны. Его взгляд не выражал ничего: ни желания, ни торжества, ни гнева, ни удивления, только, может быть, легкую тревогу. Впрочем, он сам в этом признался, все так же шепотом, когда мы вернулись в парк:
— Изабель, я прошу тебя: возьми себя в руки. У тебя все на лице написано, а нам теперь надо быть такими осторожными!
Сообщничество кустарников не подбодрило его, не подало идею обнять меня. Боялся ли он меня отпугнуть или считал, что отныне легче будет делать это в кабинете, чем рисковать в Залуке? Возможно, подготавливая наше «безумие», он уже включил в распорядок дня и свое спокойствие? Я знала, что он принадлежал к людям, обладающим настоящим талантом кондитера и умеющим подсластить самую горькую пилюлю. Тем не менее, покоренная его спокойствием, я тащилась за ним, не в силах противиться некоторому успокоению. Он же убыстрял шаги, крепко держа меня за руку, по виду исполненный решимости не дать мне наделать глупостей, не отпускать меня от себя. На развилке, вместо того чтобы пойти к Залуке, он свернул к дороге, и вскоре я увидела его машину, стоявшую на обочине. Все было продумано. Морис открыл мне дверцу, усадил меня и спросил не глядя:
— Не хочешь зайти к маме?
Я покачала головой. В первый раз я начинала день, не поцеловав свою мать, но я не чувствовала в себе сейчас сил выдержать это испытание. Морису, похоже, стало легче на душе.
— Ты права, — сказал он. — Уедем, ни с кем не прощаясь. Вечером что-нибудь напридумываем. Я уже сказал Натали, что мы должны уехать раньше. Я подозревал, что ты будешь не в своей тарелке.
На этом эвфемизме он рванул машину с места и помчался в Нант. Стрелка на спидометре показывала около ста. Такая спешка уже говорила о том, что его уверенность имела свои границы. В машине нам больше нечего было опасаться нескромных глаз, и он мог бы, должен был бы найти подходящие слова, чтобы развлечь мои мысли. Но он молчал, вцепившись в руль, словно вел машину по краю пропасти. Он молчал изо всех сил, удовольствуясь тем, что время от времени бросал мне улыбку — слишком короткую, намеренно лишенную всякого выражения, чтобы случайно не выразить одного — огромного замешательства, стараясь ввести меня в заблуждение и выиграть время.
Читать дальше