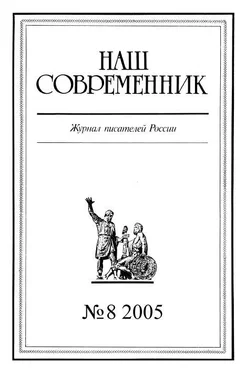С началом «пролетарской эры» и Клюев, и представляемая им культурная традиция становились всё более чуждыми — не только «в классовом отношении», но и по своей сложности. «Такие люди, вобравшие в себя большую и чуждую нам культуру, которая всё же ценна для нас, сложны и таинственны», — писал в 1932 году Ефим Вихрев (8, с. 233), также воспринимавший Клюева как представителя другого мира.
Как видим, и до, и после революции Клюев оставался в своей стране неразгаданным «чужаком». Тем более ценны и значимы случаи «узнавания», когда подлинность Клюева и его соприродность отечественной культуре удостоверялись безоговорочно. «Клюев — пришелец с величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоится в эллинской важности и простоте. Клюев народен потому, что в нем сживается ямбический дух Боратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя», — писал О. Э. Мандельштам («День поэзии 1981», М., 1981, с. 197). «Его манера была обычной манерой, стилем сказителей. Так сказывали Рябинин, Кривополенова и другие, попадавшие к нам с севера», — вспоминал художник М. В. Нестеров.
Знаменательно, что украинец Б. А. Лазаревский сразу воспринял Клюева как «великорусского Шевченко» — народного гения, великого национального поэта. Лазаревский был воспитан на «культе Кобзаря»; автор многочисленных повестей и рассказов, он написал также две статьи о Шевченко. Поэтому сравнение Клюева с одним из величайших гениев славянства звучит в его устах и лестно, и веско.
Впоследствии, уже в 1930-е годы, Клюев скажет о своей участи: «…это похуже судьбы Шевченка…». И символом своей опальной поэзии назовет именно кобзу: «Никто не слышит ветродуйной, дуплистой и слепой кобзы…». Впрочем, его поэтическое родство с великим Кобзарем Украины не вызывает сомнений. Клюев, писавший о своей «славянской звезде», о «ключе от песни всеславянской и родной», открывал, как и Шевченко, «земляную книгу» — первобытные истоки славянского мифа. В 1920–1930-е годы поэт часто использовал украинские фольклорно-песенные образы и этнологические мотивы, стремясь воссоздать единое «соборное» всеславянское слово Руси, которая «отлетает»: «Чумаки в бандурном, родном, / Мы ключи и Стенькины плёса / Замесим певучим пшеном».
* * *
Характерно, что Б. А. Лазаревский, в отличие от прочих мемуаристов, не упоминает об одежде Клюева — настолько естественной и уместной находит её (ведь и Шевченко, уже академик-гравер, создаёт свой знаменитый автопортрет в национальной одежде и с запорожской серьгой в ухе).
Но именно одежда Клюева чаще всего раздражала современников, вызывая недоумение и насмешки. «Они смеются над моей поддёвкой»… Да, действительно смеялись; более того — прозвали «ряженым мужичком» и пытались поэзию Клюева также отождествить с «ряженьем», с нарочитой стилизацией. При этом поучали, упрекали в неумелости (!), в незнании «подлинной народности». Приведем фрагменты откликов прессы на публичные выступления Клюева и Есенина с чтением стихотворений в феврале-апреле 1916 года:
«…их искание выразилось, главным образом, в искании… бархата на кафтан, плису на шаровары, сапогов бутылками, фабричных, модных, форсистых, помады головной и чуть ли не губной…
Вообще, всего того, без чего, по понятию и этих „народных“ поэтов, немыслим наш „избяной“ мужик.
Поиски в области версификации тоже сводятся к расфранчиванию и припомаживанию самими ими изобретенных квазинародных слов, вроде: „избяной“, „подмикитошный“, „вопю“ и тому подобной „заумности“» [7, т. 1, с. 323].
«А поэты-„новонародники“ гг. Клюев и Есенин производят попросту комическое впечатление в своих театральных поддёвках и шароварах, цветных сапогах, со своими версификаторскими вывертами, уснащёнными какими-то якобы народными, непонятными словечками. Вся эта нарочитая разряженность не имеет ничего общего с подлинной народностью, всегда подкупающей простотой чувства и ясностью образов» [7, т. 1, с. 324].
«Трудно поверить, что это русские, до такой степени стараются они сохранить „стиль рюсс“, показать „национальное лицо“. Таких мужичков у нас не бывало…» [7, т. 1, с. 334].
«Первые протесты вызвали прекрасные стихи Клюева, к сожалению, читаемые им всё более нарочито, претенциозно, „костюмно“, да к тому же трудные и утомительные в чисто филологическом смысле (в особенности постоянно повторяемый поэтом Беседный наигрыш „с малым погрецом ногтевым и суставным“)» [7, т. 1, с. 351].
И в откровенно издевательских откликах, и в последнем сочувственном есть нечто общее — неприятие «нарочитости», «костюмности». Отметим один важный акцент: свои «прекрасные стихи» Клюев читал «всё более нарочито»… Очевидно, это имело для поэта принципиальное значение. Но для понимания такого поведения также требовалось определенное усилие, что было для публики «трудно и утомительно», почему и «вызывало протесты».
Читать дальше